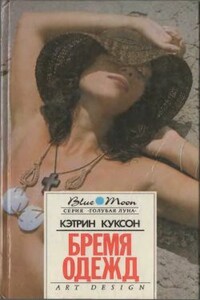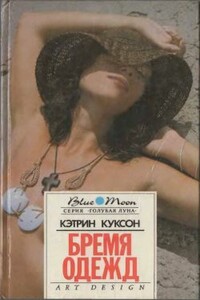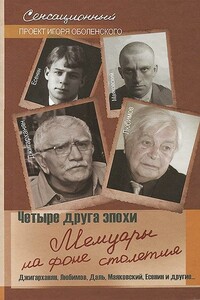…и не успела Китти оглянуться, как оказалась не только под влиянием Анны, но и поняла, что влюблена в нее, как неопытные девушки влюбляются в замужних женщин, которые старше них…
Лев Толстой, «Анна Каренина»
Сегодня меня неожиданно тронули слова преподавательницы йоги. Они представляли собой нечто среднее между речью сотрудницы службы «секс по телефону» и участницы конкурса стихоплетов-любителей. В начале занятия она попросила нас представить, что мы плывем на облаке. Цитирую: «Откройте свое сердце этому облаку, плывите, распускайтесь, как бутон, и подстраивайтесь под ритм Вселенной! Растворяйтесь! О да, растворяйтесь!»
Поначалу мне пришло в голову послать ее кое-куда и выйти из зала. Я занимаюсь йогой уже почти десять лет, мне тридцать четыре, и я слишком стара для всего этого (имеется в виду эзотерическая белиберда с облачками). По мне, плавание на облаке куда больше похоже на те ассоциации, что приходят на ум, когда падаешь из самолета, находясь под действием ЛСД, чем на приятное медитативное упражнение. Но когда я абстрагировалась от содержания, оставив лишь звуки ее медоточивого, «посмотрите-какая-я-вся-йогическая», голоска в качестве фона, мне удалось действительно достичь состояния глубокой медитации. Правда, медитировала я на то, как хорошо было бы сейчас расквасить ей физиономию, но все же.
В конце занятия она предложила вместе спеть мантру: гате, гате, парагате, парасамгате… что, как пояснила она голосом женщины-йогаробота, означает «я ухожу, ухожу, ухожу за пределы видимого». Она была совсем молоденькой, одной из тех симпатичненьких йогинь, похожих на кексик с глазурью, в черно-сером костюмчике для йоги. Ей было лет, наверное, двадцать пять. Может, и того меньше. Она сказала, что ее бабушка недавно умерла и ей хочется посвятить эту мантру ей и всем нашим любимым, которые недавно покинули нас. В тот момент я простила ей все — мне даже захотелось застегнуть ей воротничок и угостить чашкой горячего какао. Я пела мантру за ее любимых, за своих и за себя двадцатипятилетнюю — ведь мне тоже когда-то было двадцать пять.
Мне исполнилось двадцать пять через месяц после рокового 11 сентября, когда истории тех, кто «ушел за пределы видимого» в тот день, были еще свежи и повсеместны. Тогда я работала на трех работах, чтобы накопить денег на переезд из Сиэтла в Нью-Йорк. Где бы я ни очутилась: в офисе юридической фирмы, в баре, в банке для оплаты счетов бабушки и дедушки, — повсюду передавали новости, и эти новости были плохие. Очень много людей занималось поисками останков любимых.
Так много раз повторялись одни и те же кадры — самолеты врезаются в башни, дым, пепел.
До того года я никогда не боялась смерти. Мне казалось, что уже лет в семнадцать я все поняла: тогда я решила, что если человек живет в согласии с самим собой, то и умирает без страха и сожалений. В семнадцать лет все казалось предельно простым: если я проживу жизнь так, как того требует мое истинное «я», смерть станет всего лишь еще одним любопытным приключением, которое можно пережить на моих собственных условиях. Религия не является препятствием для жизни в согласии с собой, решила я, особенно для тех, кто собирался пройти конфирмацию в католической церкви лишь потому, чтобы угодить своим родителям. Итак, в семнадцать лет я заявила маме, что не буду проходить конфирмацию. Мол, Кьеркегор сказал, что каждый из нас должен прийти к вере самостоятельно, а я еще не нашла свою веру, и она не может меня заставить.
Все это, конечно, было очень хорошо для семнадцатилетней балбески, в глубине души считающей себя бессмертной, что подтверждали мои бесчисленные штрафы за превышение скорости. Но вот к двадцати пяти годам идея о смерти как приключении уже казалась идиотской. А также жестокой, бессердечной и, главное, бестолковой. Смерть не приключение: это бездна, которая совсем близко и постоянно находится рядом. Именно поэтому каждый раз, когда дед не мог встать с кресла на моих глазах, у меня в горле вставал комок. Именно поэтому мы все смотрели новости, зажав руками рты.
Я недавно закончила колледж, отложив поступление до двадцати одного года, чтобы после школы отправиться в Европу, как требовало мое истинное «я». И вот летом я должна была переехать в Нью-Йорк. И если до взрывов в Нижнем Манхэттене я по этому поводу просто нервничала, то после этот трудный, но необходимый переезд и вовсе стал восприниматься мной как игры со смертью.
Смерть была повсюду, куда бы я ни взглянула. Переезд в Нью-Йорк означал конец моей жизни в Сиэтле — жизни, которую я делила с семьей и друзьями. Из-за значительных дыр в нашей системе нацбезопасности мне казалось, что если я перееду, то, возможно, никогда не увижу родных снова. Помню, как просчитывала, сколько времени займет пеший путь от Нью-Йорка до дома, который мне придется проделать в случае апокалипсиса. Кажется, получалось долго. Меня это беспокоило.
Даже когда моя голова не была занята постапокалиптическими параноидальными фантазиями, меня подстерегала смерть. По приезде в Нью-Йорк мы с моим парнем Джоной планировали съехаться, и я знала, что это означало. Означало, что свадьба не за горами, а потом обязательно появятся дети. А уж после детей конечно же смерть.