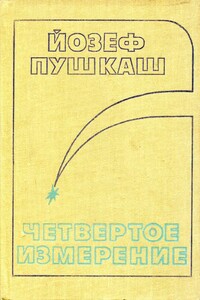Павел Пепперштейн
ЯЙЦО
Павел Пепперштейн (Пивоваров) - писатель и художник-концептуалист, автор многочисленных инсталляций, художественных и теоретических текстов, основатель и участник группы Инспекия "Медгерменевтика" (вместе с С. Ануфриевым и В. Федоровым) - самого интересного и продуктивного явления в современном русском искусстве. Знакомство с работами "Медгерменевтики" было поистине открытием для меня, меня поразила специфика их философии, необыкновенный спектр информации, используемый для теоретической деятельности. Казалось бы, нет той области культуры, к которой бы не обращалось внимание медгерменевтов - от новейшей западной психологии и постмодернистской теоретики до инфантильного мата московских детсадов и мухоморных трипов сибирских шаманов, в одном тексте могут соседствовать Деррида и Карлсон, Барт и Колобок, серьезный тон академической логики перекликается с онейроидным галлюцинозом шизоидного мышления. Пепперштейн, как указано выше, широко известен как создатель инсталляций, и это отражается в его текстах, которые часто снабжены комментариями. Ровная словесная, а ля Пруст, гладь текста прошита эзотерическим шифром, который порою совсем незаметен, и поэтому становится непонятно, что хотел сказать автор, что делали герои данного рассказа, зачем, почему... Но в текстах Пепперштейна никогда ничего не происходит просто так, все имеет свой смысл, так что хотите - просто читайте, а хотите - читайте, разгадывая их тайные аллегории...
Али талии тонкой мелькнут в зеркалах отраженья,
"Алиталия" в воздух поднимет свои самолеты,
Над коврами земли, над лугами небес совершая круженье,
В темных заводях Леты свои оставляя заботы.
Капитан Двадцать Восемь вызывает по рации землю,
Но ему отвечают лишь музыкой и канонадой.
Капитан Тридцать Три произносит "Не внемлю. Не внемлю".
Он теперь много спит. И во сне он, наверное, видит парады.
Да, я тоже хочу на парад, на Девятое Мая,
Чтобы шли мы с тобою, как малые лети, за руки держась.
В темном небе салют. И над этим салютом взмывая,
Будем плыть мы с тобой, над землею и небом смеясь.
Ветераны нам будут махать золотыми флажками,
И на башнях кремлевских в тот день парашюты раскроют зонты,
Будут плыть самолеты, будут танки струиться под нами.
Ты со мной? Ты со мной. Вот рука и мосты.
Здравствуй, город Москва. Я люблю твоих девочек нервных,
Я люблю твои темные воды и великих вокзалов кошмар.
И тебя я люблю. Ты меня тоже любишь, наверное.
Обними же меня, ибо скоро я сделаюсь стар.
В синих тапках я буду сидеть на веселом диване
Весь седой и улыбчивый, словно Будда, что съел пирожок.
И земля с небесами будут вместе смеяться над нами.
Потому что мы глупые дети. И в руках наших красный флажок.
В тот восторженный день, залитый победным солнечным звоном, святые невидимые существа распахнули оконце, спрятанное в небесах, и какой-то дополнительный воздух стал падать на Красивое Подмосковье огромными охапками, хрустящими, свежими и холодными, как зимние пакеты со свежевыстиранным и окрахмаленным бельем. Огромный город, скромный, величественный и страшный, как худенький труп Суворова в бревенчатой горнице, лежал на своих вокзалах, где губы ежесекундно сливались с губами, создавая прощальные поцелуи. Как некогда колоссальный, толстый, раздувшийся и одноглазый труп Кутузова, висело небо-победитель, сверкая своими Голенищами. Как собранный воедино труп Нахимова шла мимо река. Как генерал Егоров стояли ликующие дома. Боже, сколько было цветов! Как больно визжали от восторга все вещи в предчувствии весны! Помнишь, так же капал дождь много лет назад? Что такое "душа"? Не произошла ли она от "удушья", от "душить"? Теперь более не было душ, потому что вместо них был воздух - и дышать можно было без ограничений, с наслаждением, как будто в ветер подмешали сахар и тазепам. Киевский Вокзал! Белорусский вокзал! Украина! Белоруссия! От Киевского вокзала, от его орлов и пыльных стекол, идут пригородные поезда. От Белорусского, от его необъяснимых пустых ниш, от его зеленых простенков, напоминающих об ужасе одинокого железного дровосека, попавшего наконец в Изумрудный Город, тоже идет ртутный поток, уносящий с собой вагончики - вагончики, вагончики... С тех пор, как о них писал Блок, исчезли желтые и синие, которые молчали, исчезли страны Жевунов и Мигунов (Украина и Белоруссия), остались только зеленые, русские, в которых плакали и пели, и до сих пор плачут и поют. Остался Город - Великий, Изумрудный, Увенчанный Рубинами. Которые как рубины в часах. Остался Разум и Изюм, осталось Изумление. Два железных потока идут от двух вокзалов, чтобы разойтись в разные стороны - один пойдет на Запад, и другой пойдет на Запад, но южнее. Но, прежде чем разойтись окончательно, они почти сходятся в прекрасном и веселом Подмосковье: в этом месте между ними остается промежуток, который долго был нашими угодьями - угодьями наших прогулок, нашего отдыха, наших сердец.
Мы жили в Переделкино, в писательском поселке, в дачном доме, аккуратном и просторном. Мы занимали его по праву, он принадлежал нашему дедушке, и мы обитали в нем - мы - внучки писателя, написавшего "Блокаду", написавшего "Парней с Торпедного". Наш дед, уважаемый всеми, обожаемый нами начальственный, озабоченно-шутливый, справедливый. Наш преданный сторож Семен Яковлевич, который нередко раскачивал нас на своих могучих руках, И наконец мы - Настя и Нелли Князевы, однояйцевые близнецы, смешливые сероглазые копии друг друга.