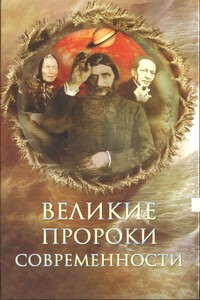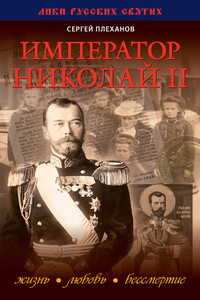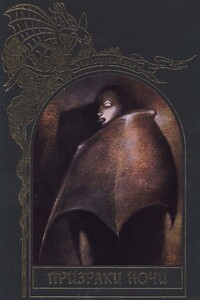Когда, поеживаясь спросонья, мы вылезали из палаток, над степью только занимался рассвет. В синей дымке вдали проступали контуры вышек и паутина колючей проволоки, нереальные, неправдоподобные, будто неоконченный набросок какого-то средневекового острога. Лишь отчетливо слышный лай овчарок да крики команд выдавали, что за этим неправдоподобием таится реальная жизнь, что это не декорация, не мираж. Там жили наши землекопы.
Я был тогда студентом и работал в археологической экспедиции при одной из великих строек коммунизма — на Волго-Доне. С вольной рабочей силой было туго, и для экспедиции строительство уделило несколько сотен из своих заключенных. Наша работа считалась не из самых тяжелых, и нам дали женские отряды.
В шесть утра распахивались ворота лагеря и издалека слышался тенорок кого-то из конвоиров:
— Па-па торкам! Па-па торкам!
Сначала я не мог понять, о каком папе речь и кого там «торкают». Позже до меня дошло: конвой большей частью состоял из среднеазиатов, а они говорили с сильным акцентом, и крик означал: «По пятеркам!» — заключенных выпускали пятерками, чтобы легче было считать. Затем длиннющая колонна направлялась к месту работ, сотни сапог взбивали пыль, а над степью разносилась залихватская — с гиком и свистом — песня, вылетающая из сотен женских глоток:
Серая масса зэков растеклась по участкам, каждый студент практикант (или студентка) получала примерно по десятку человек, конвой вставал рядом, и начинался рабочий день. Солнце поднималось все выше и выше и вскоре уже нещадно палило, в худых руках мелькали лопаты и кирки, густая пыль застилала неглубокий котлован.
Постепенно мы знакомились ближе с нашими подопечными, узнавали про их беды и вины, ужасались их исковерканным жизням. Но мы не могли примерить к себе их судьбы, а в их речах, суждениях и поступках многое ставило нас в тупик. Нам были непонятны их обиды, странны их радости. Казалось, эти женщины подчиняются какой-то особой логике, а о чем-то важном упорно молчат. «Вам этого не понять», — часто говорили они. Словом, это был другой, чуждый нам мир, в который нам доступ был закрыт — и слава богу. Мы довольствовались внешними знаниями этого мира — достаточным, чтобы общаться и поддерживать рабочие отношения. О прочем старались не думать.
На ночь конвоиры уводили заключенных в лагерь, ворота закрывались, и все снова начинало напоминать мертвую декорацию или средневековый острог. С болезненным любопытством мы бродили вокруг, пытаясь углядеть что-то за оградой, но конвоиры не допускали нас близко, и никогда никто из нас не бывал внутри. Внутренность лагеря оставалась недоступной нашему взору, как другая сторона луны.
На следующий год мы прибыли снова на то же место, и опять нас ждали вышки, конвой и лай собак, опять серые ряды заключенных. Но одного из студентов — синеглазого смешливого Сашки — уже не было с нами. Где-то в таком же лагере он стоял в рядах заключенных: по пьянке он совершил преступление. А кроме того, не было среди нас и одного из научных сотрудников. Этот никакого преступления не совершал, но прежде сидел по подозрению в политической неблагонадежности, а теперь таких сажали снова для профилактики. Все это задевало каждого из нас: это были люди нашего круга. Сашку мы жалели открыто, иные поругивали («сам виноват»), а исчезнувшем ученом вспоминали только шепотом. Или молча. Но тут мы впервые задумались о вечных вопросах — о преступлении и наказании, случае и воле, характере и судьбе, вине и исправлении. Потому что старались себе представить, каким Сашка вернется много-много лет спустя из далекого лагеря, который должен его покарать и исправить.
Через много лет ученый снова появился из небытия, постаревший, какой-то облезлый и злой, а Сашка исчез навсегда. Наши пути более не пересекались.
Прошло тридцать лет. За это время я проделал шестнадцать экспедиций, пять последних в качестве начальника экспедиции, написал полтораста научных статей и несколько книг. У начальников экспедиций в те времена было так много обязанностей и так мало прав, деятельность их была скована такой уймой бессмысленных запретов и предписаний, что им то и дело приходилось встречаться с ревизорами и сотрудниками ОБХСС, и частенько перед нами маячили следствие и суд, но меня судьба миновала. И вот когда я уже перестал ездить в экспедиции и поверил, что меня минула чаша сия, потому что за мной теперь грехов и быть не может, пришел мой черед. По бокам встали молодые конвоиры, я оказался на жесткой скамье — сначала перед разговорчивыми следователями, потом перед молчаливыми судьями, а в промежутках все это время — в тюремной камере, перед понурыми сокамерниками.
Не буду описывать, как я добивался оправдания, а не добившись и отбыв срок полностью — реабилитации. Речь не о том. Когда прозвучал приговор и я понял, что мне предстоит долгий путь, пройденный до меня многими, я подумал, что в любых обстоятельствах надо оставаться верным своему призванию — науке. В сущности мне предстоит семнадцатая экспедиция — этнографическая. Вероятно, это будет самая трудная из моих экспедиций, может быть, опасная для здоровья, но, пожалуй, и самая интересная. Экспедиция в мир, совершенно чуждый, не освещенный в литературе (или выборочно освещенный в неподцензуреных мемуарах), плохо изученный. И я вскинул свою котомку на плечо, готовый наблюдать запоминать и осмысливать.