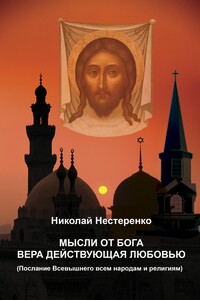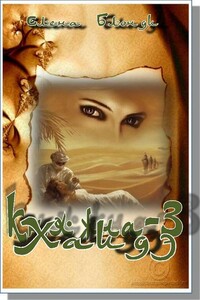Посвящается Елене Колчак
Как всегда, он сначала посмотрел вверх, на дальний пологий склон, где среди щеточек трав торчало тонкое деревце айланта, колыхая под ветерком резными длинными листьями.
Ступил на полянку в гуще случайных колосьев, диких, уже высушенных летним солнцем, и обходя маленький кустик, тоже случайный, неизвестной ему породы, сунул руку в карман, вынимая привычный мобильник. Тыкая пальцем в гладкий экран, задумался, а как его называть, если попросту, кирпичик — слишком тонкий, дощечка — деревянное какое слово…
— Леля? — сказал ответом на сонный голос, такой родной и так знакомо недовольный, и заторопился, пока жена не рассердилась еще сильнее, — Леля, подожди. Давай помиримся, а? Ну, чего ты. Знаешь ведь меня.
Стоял вполоборота к кустику, разглядывал внимательно, не видя: узкие аккуратные листья, длинные кисточки светлых цветков, будто припорошенных мукой.
Леля помолчала, вздохнула и заговорила, а он шагнул ближе к листьям, молча, чтоб понимала, слушает. Хотя говорила жена всегда больше, чем нужно бы, по ходу монолога сама себя заводя, перечисляя свои на него обиды. Но он знал, если не прерывать, сама же и успокоится, дойдя в словах до своего края. Постоит там, и возвращаясь, наконец, выдохнется, успокаиваясь. Тогда голос изменится, станет таким — любимым, с улыбкой внутри.
Цветки пахли сильно, мягко и одновременно пронзительно, будто и правда, в нос набивалась душистая мука, от нее хотелось чихнуть. Он сморщил нос, крепясь, чтоб Леля там поскорее, к улыбке, не отвлекаясь. И когда замолчала, все же чихнул, раскатисто, громко, дернув рукой так, что мобильник выпал, блеснув рыбкой в маленькой тени у толстого короткого стволика.
— Женя? — из тайного сумрака доносился игрушечный Лелин голос, — Женька? Ты что? Ты где вообще?
Стоя на коленках, он нащупывал телефон, тот уворачивался, но все же смирился, возвращаясь удобно в ладонь, а с ней к уху.
— Уронил. Извини. Мир, да?
— Конечно, мир. Ты мой чучел огородный, ну как с тобой ругаться?
Ругаешься же, хотел резонно возразить Женька, для всех остальных давно уже Евгений Павлович, солидный мужчина, заведующий большой исследовательской лабораторией в местном нии, но благоразумно промолчал. Тем более, сам виноват.
— Леля?
— Что? Мне выходить пора, опоздаю.
— Я тебя люблю.
В трубке раздался короткий смешок. Евгений Павлович выпрямился, и сам улыбнулся, широко, до ушей. Вот когда она так смеется, тысячу раз готов признаваться в любви. Этим когда-то и взяла. Не так чтоб большая красавица, обычная была девушка, каких много. Но первый раз позвонил, да почти просто так, со скуки, в кино позвать, потому что больше некого было. И тут она засмеялась. Коротко, негромко, с обещанием, которого, кажется и сама не заметила.
Потом, когда уже вместе были, все удивлялась, да что ты мне звонишь, если все равно мимо дома каждый день, помаши, я тебя в окно вижу. Но почему-то, когда вместе, рядом, в кино там или на пляже, то редко смеялась так. Или по-другому слышалось, не так, как через провода, металл, пластмассу.
Из-за этого ее смеха в первый раз и поругались, вдрызг. Ей однокурсник позвонил, что-то там про зачеты узнать. Пока Женька на диване валялся, уже принцем, уже совсем свой, ногу на спинку закинув и лениво книжку листая, она толково все объяснила, выслушала, и прощаясь, засмеялась. Так вот.
В-общем, сердиться, на своего сначала парня, потом мужа, отца двух детей своих и деда маленькой внучки, Лелька имела полное право. Потому что, когда ревновал, совсем ему крышу сносило. Сам после краснел, вспоминая, как язвительно жену подкалывал, фразочками и намеками доводил, кричал иногда, и швырнуть мог что-то, под горячую руку.
Тогда, в первый раз, такие глаза у нее были. Вскочил, наорал, противным голосом передразнивая ее реплики телефонные, что-то там про собеседника высказал совсем грубое. И выскочил, дверью с оттяжкой хлопнул, не постеснялся и Лелькиной мамы, что вышла на крики из своей комнаты, встала, провожая крикуна пристальным взглядом.
Первая ссора была самой тяжелой, на страхе замешанной. Не знали друг друга, боялись оба. Он — что Лелька плюнет на его выбрыки и порвет отношения. А Леля, сама после призналась, больше боялась, что дурак — сам себе поверит и убежит, бросит ее.
Самой тяжелой. Но не самой длинной. Потому что несколько лет еще, да считай десяток, или побольше, все притирались, все выясняли, что можно поменять, а с чем остается только мириться. И стоит ли мириться-то.
Ольга Ивановна, Лелькина мама, после первого того скандала свое слово высказала. Не будет вам покоя, оба упрямые, так вот и станете всю жизнь людей смешить, а себе душу рвать. Нашла бы себе тихого, уживчивого. Или вот, чтоб верховодил, но умно, так, чтоб ты, Лелюшка, кивала и слушалась, чтоб как за каменной стеной.
— А счастье нам будет, ма? — спросила ее Лелька, глядя на мать таким же пристальным, без доброты, все еще в недавнем прошлом ссоры, взглядом.
— Счастье… Да. Счастье будет, — честно ответила Ольга Ивановна, — да только от такого счастья устаешь скоро. А ты женщина, тебе нужно красивой быть, усталость она быстро состарит. Что смеешься?