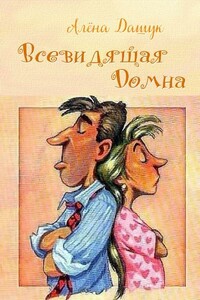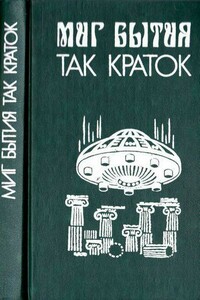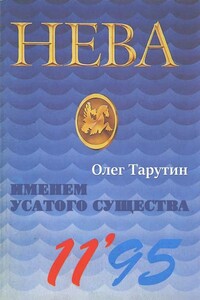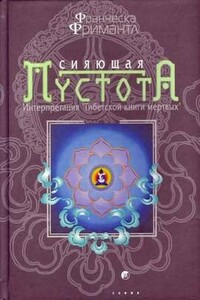Старенькая «Лада» гремела по трассе, точно набитая камнями консервная банка. До родного райцентра ещё далеко. Мишаня блаженствовал. Никто под руку не гундит — лихач ты, дескать, ненормальный — смолить одну за одной вонючие папироски не запрещает… Да хоть песни во всю глотку ори!
Мишаня и орал.
— Ай, нанэ-нанэ! Эй, чавалэ!!!
Больше по-цыгански Уткин не знал ни слова, но сейчас душа просила именно такого: удалого, раздольного, бьющего в голову пестротой одежд и терпким духом костра. Свобода и воля!
Целый месяц головокружительной СВОБОДЫ!
Не то чтобы супруга так уж отравляла Уткину жизнь, но подпортить умела изрядно. Отдохнуть от семейного гнёта Мишане за два десятилетия выпало впервые. Благослови, Господи, фрау Маньку, выманившую сестру в гости!
Мария, младшая сестрица Домны, девицей была ушлой. Замуж за инженера Иоахима Брумкеля выскочила, владея лишь русским языком, да и то с грехом пополам. Не знал русского и доверчивый баварец. Как уж они договорились, не ведало даже местное сарафанное радио. Обиженные старушки окрестили скрытную вертихвостку презрительным фрау Манька, тем и успокоились. Только Маньке-то что — уехала и, как в воду, канула.
Но родная кровь — не вода. Пару лет назад потеряшка нашлась. Сначала звонила редко. Потом звонки участились. Вечерами сёстры шушукались по телефону, вызывая у Мишани приступы острой жалости к оплачивающему всю эту словесную шелуху инженеру.
И вот Брумкели явились засвидетельствовать своё почтение лично. В подарок привезли плеер Гришке, исподнее Мишане, скороварку для Домны и массу тарелочек с видами Фатерлянда, кои рукодельный Брумкель в тот же день развесил по всему дому под бдительным руководством своей фрау. Мишанино предложение помочь вызвало у Домны лишь кривую усмешку.
— Чтоб на голову мне всё это рухнуло?! На рынок сходи! Гости на порог, а в доме шаром покати! Не допросишься тебя.
Мишаня обиделся, но на рынок пошёл.
«Не больно-то и хотелось! — рассуждал он. — Мужицкое дело мамонта в пещеру доставить… а не финтифлюшки разные приколачивать».
Немецкий свояк оказался очень даже ничего. Пока поглощённые друг другом сёстры секретничали о своём, о дамском, их благоверные нашли общий язык.
— Ка-ра-чо! — провозглашал Брумкель и, звонко хлопая Мишаню по спине, пил за его здоровье.
— Гут! — поднимал ответную здравицу Уткин, отвешивая инженеру родственную плюху.
Когда глаза Брумкеля мутнели, он обнимал Мишаню за плечо и принимался доверительно лопотать что-то на своём, знакомом Уткину разве что по фильмам про войну, языке. В словесном потоке Уткин разбирал лишь хрестоматийные «шнеллер» и «цурюк». «Хэнде хох» не попадалось — вот и ладненько. Чаще прочих проскакивало словечко «думмкопф», о значении которого Уткин догадывался по выразительному постукиванию костяшками пальцев по лбу. В этот момент Брумкель напоминал бассет-хаунда. Без перевода становилось ясно — жизнь у свояка тоже не мёд.
Мишаня снова хлопал раскисшего Иоахима по спине и ободрял.
— Да всё гут будет! Но пасаран!
— Карачо, карачо, — оживал Брумкель и из бассета превращался в чуть менее трагично смотрящего на жизнь мопса.
Случалось, на откровения пробивало и Мишаню.
Потом они пели «Подмосковные вечера»…
Душевно сидели, словом.
На вокзале интернациональное семейство троекратно, по-русски, расцеловалось.
По пути домой Домна заявила:
— К сестре поеду! Племяшков поглядеть хочу: Грету, Пауля… — Она возвела глаза к потолку, припоминая непривычные уху имена: — Марка…
— Ты в областном центре-то сегодня третий раз в жизни была! — усомнился Уткин.
— Не дурнее других! Погляжу хоть, как нормальные люди живут. — Покривившись, Домна продолжила загибать пальцы: — Эрику…
— Штефана, — напомнил Мишаня.
Уткина сердито фыркнула.
— Я и говорю, Штефана. Пятеро у них, не то что…
Вся подготовительная суета легла на плечи Уткина. Домне было не до того — она НЕРВНИЧАЛА. Доставалось всем: приехавшему на каникулы сыну и имевшим глупость попасться на глаза Уткиной продавщицам; любопытным коллегам и не интересующейся ходом сборов золовке; соседскому гусаку Ржевскому и уткинскому коту Брысю… Больше всех, как водится, пострадал Уткин. Нащупать тонкий баланс между «не вертись под ногами, когда я НЕРВНИЧАЮ» и «где ты бродишь, когда я НЕРВНИЧАЮ» ему никак не удавалось…
Сегодня Мишаня усадил, наконец, НЕРВНИЧАЮЩУЮ супругу в следующий на Москву поезд. Дальше её НЕРВЫ — забота проводниц, служащих «Шереметьево-2», таможенников, стюардесс… Всех этих людей Мишане было жаль, но им за это хотя бы деньги платят.
Мишаня летел по трассе, захлёбываясь свободой и папиросным дымом.
— Эй, чавалэ-э-э!!!
Ему было хо-ро-шо! Зер хорошо! Очень даже гут!
Ноздри щекотнул манящий укропно-чесночный дух. Потёкшую банку супруга с самым скорбным видом вручила Уткину уже на перроне. Акт передачи истекающих рассолом груздей сопровождался обвинительной речью: «Кто так крышки закручивает, бестолочь?!».
Мишаня втянул носом пряный аромат, счастливо вздохнул. Бывают же дни, когда даже неприятности оборачиваются удачей! На хранящиеся дома соленья наложен строжайший запрет. Огурчики-помидорчики, капуста квашеная с хреном и без, грибочки — всё загодя распределено по праздничным застольям рачительной Домной. А тут целая банка! Ему ОДНОМУ! Забракованные супругой грузди блеснули перед мысленным взором Уткина подсолнечным маслом, заиграли колечками сочного лука. Заискрилась «слезой» бутылка «Столичной»… Рот Мишани наполнился слюной, глаза увлажнились.