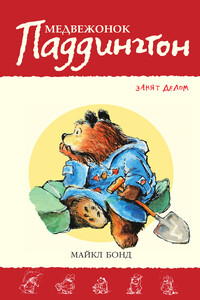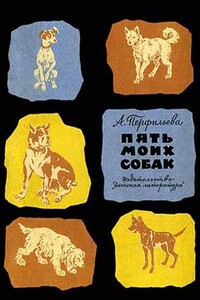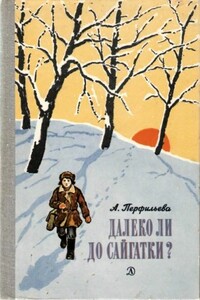Это письмо — истрепанный, с темными печатями и почему-то уже вскрытый конверт — было принесено мартовским утром 1920 года в один из московских переулков между Арбатом и Пречистенкой.
Старичок, принесший письмо, вовсе не походил на почтальона. Он был в пенсне, потертой котиковой шапочке и переделанном из пледа коротком пальто. Достав письмо из висевшей на плече сумки, старичок остановился у ворот одноэтажного особняка с мезонином и колоннами.
Кругом, вдоль заваленного сугробами переулка, звенел, журчал, капал подтаявший на весеннем солнце снег. Голубые сосульки блестели на чугунной ограде особняка. Резные переплеты ворот, когда-то выкрашенные эмалью, теперь облупились, на колоннах темнели пятна обвалившейся штукатурки и у каменного льва, присевшего на лестнице у подъезда, было отбито ухо и половина хвоста.
Старый почтальон вошел в ворота.
В воздухе, несмотря на солнце, еще дрожала морозная свежесть. Но широкие окна особняка были распахнуты настежь и густо вымазаны мелом.
В одном из окон стояла высокая женщина в халате. Откинув повязанную шарфом голову, она ловко и старательно протирала тряпкой оконное стекло.
Старичок поднял шапочку и спросил:
— Не будете ли вы так любезны сказать, кто проживает в настоящее время в этом доме?
— Пока никто. Но скоро будут проживать, — громко ответила женщина. — А в чем дело?
— Дело, видите ли, в том, — сказал он, — что я когда-то знавал владельца этого дома. И теперь, помогая разбирать на центральном почтамте скопившуюся корреспонденцию, обнаружил на его имя письмо… — Он повертел конверт рукою в перчатке без пальцев.
— Письмо? Евлахову? — Женщина быстро повернулась и внимательно посмотрела на него. — Никого из Евлаховых здесь давным-давно уже нет. И тем не менее я хочу попросить вас… — Она легко спрыгнула с подоконника, бросила тряпку.
— Да я, собственно, почти в этом и не сомневался.
— Очень прошу вас, зайдите! Все вам объясню. — Женщина повернулась и крикнула кому-то в глубине: — Танюша, проводи товарища ко мне в угловую, быстро! А вас попрошу черным ходом, парадный еще заперт.
Старый почтальон обогнул заколоченную дубовую дверь подъезда, вышел на мощенный плитами крытый дворик. Здесь у крыльца были свалены новые некрашеные табуретки, к ним прислонились и торчали, как пики, большие и маленькие лыжи.
— Сюда, сюда! — позвала с крыльца девушка в измазанной красками спецовке.
Она провела его через несколько пустых, с лепными потолками комнат. В большой, свежеокрашенной и похожей на зал, над забрызганным известкой, выщербленным паркетом висела хрустальная люстра. У завешенных какими-то плакатами окон лежали друг на друге железные кровати. В углу стояли школьные парты, прямо на полу поблескивал новый телефонный аппарат.
Девушка толкнула ногой дверь:
— Марья Антоновна, привела!
Из двери тотчас выглянула женщина в шарфе.
— Заходите скорее, холоду напустим, — сказала она.
В полукруглой, заставленной ящиками комнате, несмотря на позднее утро, горела керосиновая коптилка. На подоконниках выстроились позолоченные чашки старинного фарфора, какие-то графины…
Старый почтальон присел на угол ящика и спустил с плеча сумку.
— Устал, знаете ли… — сказал он. — А вы меня, собственно, зачем пригласили?
— Погреться не хотите? Спрячьте-ка письмо, сейчас поговорим.
Женщина открыла один из ящиков и вытащила из-под сложенных в него байковых одеял обернутый газетой железный чайник. Поставила его на стол, сняла халат, шарф и сразу помолодела лет на десять.
Лицо у нее было открытое, с крупными чертами и умными насмешливыми глазами. Прямые русые волосы собраны в свернутую кренделем косу. На женщине была темная юбка и полотняная блузка с галстуком.
— Садитесь сюда! — приказала она, подтаскивая к столу ящик и разворачивая чайник, из его носика полетела тонкая струя пара.
— Да я, собственно…
— А вы без «собственно». Чай-то морковный.
Женщина взяла две позолоченные чашки, бросила в каждую по маленькому куску сахара.
— Так вот о письме, — сказал старичок, с наслаждением потягивая дымящийся рыжий настой и грея о чашку руки. — Дело в том, что я когда-то лично знал хозяина этого дома. И хотя не имел оснований относиться к нему с симпатией, счел своим долгом, найдя это затерявшееся письмо, доставить его по адресу. Сам я встречался не столько с ним…
— Знаю, — перебила внимательно слушавшая женщина. — Не раз и не два я вас в этом доме видела.
— Вы? — Он даже встал и снял запотевшее пенсне.
— Да, я. Андрей Николаевич Комов, так? В университет вы хозяйского сына готовили. Удивительно у вас тупоголовый ученик был!
— Позвольте… — Он протер пенсне и снова надел его. — А вы, собственно, кто же будете?
Женщина засмеялась и подвинула ему тарелку с похожими на сухие грибы лепешками.
— Да вы подкрепляйтесь, проголодались, наверно! Меня зовут Марья Антоновна Лицкалова. Не знаю, помните ли, но думаю, что помните; жила в этом доме из милости старая кормилица дочери Евлахова, Лизы. А при Лизе не то горничной, не то компаньонкой — дочь той самой кормилицы. Узнать меня, конечно, трудно…
Женщина вдруг опустила голову. Что-то горькое легло у нее в складках еще молодого рта. Однако она тут же тряхнула головой и снова засмеялась, сверкнув ровными зубами. Вынула из кармана плоскую жестянку с табаком, свернула козью ножку и прикурила от коптилки.

![Морковка Семнадцатая [с иллюстрациями]](/storage/book-covers/b5/b587cac644fc6b2e00e8ceafff2aa9c1b050297f.jpg)