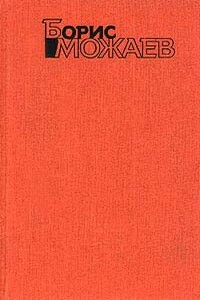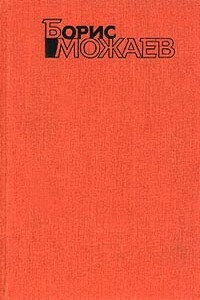Поздно ночью сильно постучали в окно избы участкового милиционера.
Сережкины спали прямо на полу; широкую деревянную кровать вынесли во двор и пересыпали дустом – от клопов спасенья не было. Татьяна, приподнявшись на локте, будила мужа:
– Вася! Слышь, Вась! Да очнись ты, не маку же напился!
– А! – тревожно вскрикнул Сережкин и, сбросив теплое одеяло с лоскутным верхом, быстро вскочил на ноги. – Что случилось, Тань?
– Да ничего, – спокойно ответила жена. – Вон стучит кто-то. Опять, видно, по твою душу.
В окно снова настойчиво постучали.
– А-а, – равнодушно отозвался Сережкин, почесывая широкую волосатую грудь, и потянулся так, что захрустели суставы. – А я уж думал, не пожар ли?
В одних кальсонах и ночной рубахе он пошел в сени, шлепая по полу босыми ногами. В сенях Сережкин наскочил на ведро, чертыхнулся в темноту, обозвав Татьяну раскидухой, и на ощупь отыскал дверную задвижку.
– Кто там? – хрипло спросил он, выглядывая наружу из-за приотворенной двери.
– Василий Фокич! – метнулась от окна к Сережкину темная фигура. – Беда, Василий Фокич. Сплавщики у нас бузят. Из ружьев так и палят, так и палят…
– Постой, говори толком, – оборвал его Сережкин. – Где это – у вас!
– Да ты что, ай не признал меня? Я ж Усков из Переваловского сельпо.
– Николай! – удивленно воскликнул Сережкин. – Фу ты, дьявол! Спросонья-то никак не очухаюсь. Здорово! – Сережкин вышел на крыльцо и подал Ускову руку. – Откуда ты? Неужто в такую пору из Переваловского?
– А я на моторке… Еле утек. Так из ружьев и палят, варнаки.
– А что, задели кого-нибудь?
– Да нет, этого не было…
– Кто же сплавщиками верховодит, Рябой, что ли?
– Вроде его не видал. Больше этот, Варлашкин, шумит. Этот, что в картинках весь. – Усков показал рукой на грудь и живот.
– А, татуированный! – протянул Сережкин. – Известно. Ну, пошли в избу. Я в момент соберусь, и поедем.
На кухне или, как Сережкины говорили, в чулане, отгороженном невысокой дощатой перегородкой от остальной избы, Василий зажег лампу. Круглолицый толстогубый Николай с непривычки к свету сильно сощурился.
– Садись, – пригласил его к столу Сережкин и сунул табуретку.
– Вася, едешь? – спросила Татьяна.
– Да. – Сережкин ушел в темную комнату собираться.
– Поесть чего-нибудь собрать?
– Не надо.
– Куда ж ты теперь?
– В Переваловское. Опять сплавщики поднялись, – ответил Сережкин и закряхтел, с трудом натягивая волглые сапоги.
– Из ружьев так и палят, так и палят, – донеслось из чулана.
На пол, на постель, на стол падал от двери длинный прямоугольник света. Татьяна лежала, все так же опираясь на локоть. Ладонью другой руки она прикрывала лицо от света. Одеяло сползло на грудь, обнажая острые худые плечи и выпуклую ключицу.
– Ты бы погодил до свету, Вася, – упрашивала она тихим глухим голосом. – А то ведь, не ровен час, того и гляди… – она не сказала, что убьют, но он понял.
– Чудная ты, Татьяна, – нехотя ответил он. – А если бы, к примеру, в бою меня командир послал ночью в разведку, я бы ему что сказал? А? Молчишь? То-то и оно. А здесь я сам командир и солдат. Сам себе приказываю и выполняю, понятно? Если я не пойду, кто пойдет? В одну сторону на полсотни километров нет милиционера, а в другую, может, на пятьсот, а может, на тыщу… Аж до самого океана. Я один тут. А порядок все равно должен быть. Власть и в тайге власть, – заканчивал Сережкин всегда этой внушительной фразой, за что получил в округе прозвище «Власть тайги».
И Татьяна смирялась, затихала.
– Подай-ка мой портупей, – попросил он жену. – А то куда мне в грязных сапогах через постель?
– Папань, я подам! – неожиданно раздался из темного угла детский голос, и парнишка лет десяти, опережая мать, бросился к столу, где лежала отцовская портупея.
– Ах ты, кочедык! – ласково обругал отец сына. – Не спишь, мерзавец!
– Может, молочка попьешь, – предложила Татьяна.
– Это можно.
Сережкин уже в чулане, на свету, проверил пистолет – заряжен ли? Затем надел снаряжение. Приземистый, туго затянутый ремнями, он производил внушительное впечатление. У него все подалось вширь: скуластое с широкой переносицей лицо, угловатые тугие плечи и даже ступня была широкой, почти квадратной. Крупные черты его лица выражали степенное миролюбие, и только маленькие светлые глаза задорно поблескивали и хитровато щурились. Ему шел сороковой год, но выглядел он лет на десять моложе. Впрочем, молодила его короткая стрижка жестких рыжеватых волос.
Он выпил литровый горшок молока, предварительно предложив Ускову, который отказался, и, повернувшись к Татьяне, сказал на прощание:
– Ну, я поехал.
– Поезжай, поезжай, – ответила она, и это прозвучало и как прощание и как доброе напутствие.
Сережкин с Усковым вышли на улицу. Небо затянуло плотными облаками, они куда-то спешили, наваливались друг на друга и клубились темно-бурыми клочьями. Иногда сквозь их рыхлую толчею проваливалась луна, и тогда видны были далеко разбросанные друг от друга деревянные дома Хохловки, за ними похожие на кочки стога сена, а еще дальше матово поблескивал плес Бурлита… Сережкин и Усков быстро шли по луговой тропинке к реке.
– Как думаешь, доберемся к утру до Переваловского? – спрашивал Ускова Сережкин.