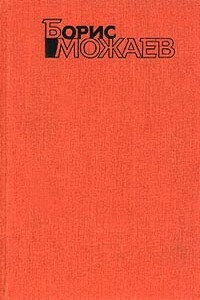– Кто очередной? – Минеевич вскидывает светлую сквозную бороденку и строго смотрит в зал.
Он сидит за кумачовым столом на сцене, справа от него председатель колхоза, слева – парторг, а где-то за его спиной бригадиры и сам председатель сельсовета. Шутка сказать! Минеевич руководит колхозным собранием впервые в жизни. От волнения нос и глаза его покраснели, словно он только что луку наелся.
– Кто очередной?!
В середине зала качнулась чья-то голова в бараньем малахае, потом поднялась загорбина в рыжем полушубке, выплыла в проход и только тут разогнулась. Высоченный старик в шубных чембарах, которые отвисали на нем, как пустой курдюк у заморенного за зиму барана, снял малахай и, держа его, словно крест, у груди, степенно поклонился лысой головой сначала президиуму, потом залу.
– Граждане колхозники, – сказал он президиуму, затем, повернувшись в зал, – товарищи мужчины, – и, прошамкав беззубым ртом, добавил: – …и протчие женщины. Поскольку, значит, я, как и всякий живой человек, должен кормиться, я и составил заявление. – Он вынул из кармана чембар тетрадный листок, развернул его и протянул к сцене, а сам – ни с места. – В котором и подаю прошение на пензию. Прошу не отказать.
– Передайте заявление, Викул Андриянович! – Председатель колхоза кивнул, кто-то взял у Викула заявление и передал в президиум по рядам. Председатель уставился в тетрадный листок; его яркие сочные губы были чинно поджаты.
Минеевич все так же напряженно смотрел в зал, положив перед собой на столе сжатые кулаки, как пару гранат.
– Ну как, товарищи, решать будем? – спросил наконец председатель.
– А чего там решать! У него стажу колхозного нет. Какая может быть пензия! – отозвался первым Минеевич.
– Ты, Викул, где был, пока не состарился? – спросили из зала.
– Дак вы же все знаете… где. Но меня это самое… ребилитировали. – Викул пошамкал и добавил: – Восстановили, одним словом.
– Вот и ступай туда. Там и спрашивай себе пензию. А на чужой каравай рот не разевай.
– Он у нас черствый… У тебя и зубов нету. Х-хе, – злорадно захохотал тот же голос.
– Куда ж я пойду… Поскольку инвалид, престарелый… – сказал Викул.
– Нет, старики… Вырешить мы должны, – поднялся древний, но все еще юркий, маленький Карпей, замуравевший какой-то землисто-серой щетиной, как еж. – Викул, он человек с уважением.
– А что толку от его поклонов! Все равно на работу он не ходит, – сказал кто-то из президиума.
Карпей быстро обернулся к президиуму:
– Совершенно правильные слова сказали… Я только насчет почтительности, стало быть… Викул, он, може, и пошел бы. Мужик почтительный, отчего не сходить? А куда же он пойдет? Може, где он был, там теперь и нет никого. И начальников распустили. Не-е! Вырешить мы должны.
Карпей, торопливо дергая сухонькой головой в стороны, как гусь, заглотавший корку хлеба, победно сел.
– Нет, мы должны вырешить.
– Я грю, стажа у него нет…
– Смотри-ка, председатель, кабы тут обману не было! – загалдели со всех сторон.
– Да стаж у него колхозный и в самом деле малый. – Председатель теребит заявление Викула и смотрит на него так, для порядка. – Значит, всего работал здесь шесть лет, а нужно двадцать пять…
– А что там работал, рази это не в зачет? – спрашивает Викул.
Председатель, совсем еще молодой человек, выпячивает красную, будто с мороза, нижнюю губу, подымает девичьи тонкие брови – силится взвесить Викуловы сроки – и наконец произносит, пожимая плечами:
– Конечно, все надо засчитывать. Но поскольку мы колхоз… у нас есть свой устав… Как собрание решит.
В зале опять заволновались:
– Он там и утром и в обед пайку хлеба получал…
– А мы деруны пекли…
– Хлеба-то не давали на трудодни…
– А ему пайку три раза в день!..
– Дак ведь я ж за эту пайку норму выколачивал!
– А мы что, не работали?
– Зачем все кричите? – приподнялся в президиуме сухопарый татарин с оголенной кирпичной шеей, вылезавшей из облезлой фуфайки. – Пускай Пешка скажет. Она, это самое, парьторг.
– Жасеин! Я сколько раз говорил тебе: не Фешка, а Фетинья Петровна, – строго обрывает его председатель колхоза и косо смотрит на широкогрудую, широколицую Фетинью Петровну.
– Какой разница! Пускай будет Петинья Петровна.
Фетинья Петровна зарделась до ушей:
– Дак ежели каждый, кто вернулся, пойдет к нам в колхоз на пензию, тогда чо же будет? На трудодни не хватит.
– Расшиби вас паралик!..
– Я в таком деле несогласная.
Бабы зашумели, заволновались.
– Цыц вы, проклятущие! – не вытерпел Парамон и встал с места спиной к президиуму, лицом к задним рядам, где на скамьях густо сидели колхозницы. – Вам какое равноправие дадено? Голосовать?! Вот и сидите – ждите. А тут мы и без вас разберемся.
– Ты уж помалкивай, Лотоха! – крикнула на него Фетинья Петровна. – Ишь раскричался! Мы еще разберем тебя за домашнее самоуправство.
– Какое ишшо самоуправство? – Парамон с вызовом обернулся и наклонил голову, словно бодаться решил.
– На жену кто руку подымал?
– А ежели за дело? Что ж это за порядок завели: бабу свою нельзя поучить? Дак она тебе на шею сядет. – Он стукнул себя по сухой и морщинистой шее.
– Тебе сядешь на шею…
– Дан на его шее, ровно на суку, воробей, может, и усядется.