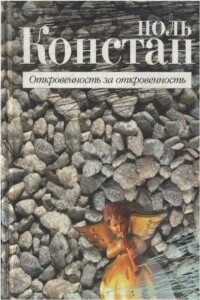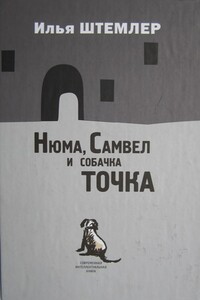Впервые увидев Зою Ивановну в общежитии литературного института на третий или четвёртый день после того, как он вызвал меня на дуэль, Кобрин, даже если бы в те минуты и мог сколько-нибудь трезво размышлять, навряд ли догадывался, что в самом ближайшем будущем эта женщина сильно изменит и мой и его, Кобрина, жизненные пути.
Поэтому Кобрин просто некоторое время щурился на неё глубоко посаженными холодными голубыми глазами, а затем, когда мы оказались вдвоём в коридоре, сказал:
— Я хочу эту женщину.
— Неужели ты не знаешь Зою Ивановну? — удивился я.
— Нет, — ответил Кобрин.
— Да знаешь ли ты, кто она такая?
— Мне всё равно. Я её хочу, — сказал он, так веско выкладывая каждое слово, что мне показалось, будто передо мной не студент четвёртого курса литературного института имени Горького Игорь Кобрин, а американский контрабандист Гарри Морган, герой романа Хемингуэя, вдруг оживший и заговоривший при этом по-русски.
С Кобриным мы потому и сблизились (трудно сказать — сдружились, это было притяжение другого рода, напоминавшее неожиданную встречу двух незнакомых хищников одного семейства где-нибудь на границе их ареалов, когда они долго ходят кругами один вокруг другого), потому — что оба любили всё мужественное, героическое и немногословное в литературе, пытаясь по таким образцам строить и свою собственную жизнь, что, конечно же, далеко не всегда нам удавалось.
Кобрину, пожалуй, в большей степени, чем мне, выпало в жизни проявить мужские качества. Действительную военную службу он проходил в Афганистане, в самом начале войны. Позднее он стал одним из первых, кто достаточно правдиво написал об этом.
Свои рассказы и повести он писал, следуя упомянутым образцам мужественности, скорее англосакским, чем русским, — плотно, сдержанно и с несколько нарочитой скупостью в словах.
Забегая вперёд, скажу, что после всего, что произошло с нами, мы остались в живых. “Русская привычка”, — сказал бы на это Ваня Беленький, но об этом потом.
Итак, мы остались в живых, и приблизительно через год после описываемых здесь событий Игорь Кобрин изложил мне один из своих художественных принципов.
Мы сидели поздним зимним вечером в его комнате, на одном из самых спокойных этажей общежития, в креслах с синей обивкой, с задёрнутыми шторами, при свете неяркой настенной лампы с плотным абажуром, которая не разгоняла темноту, а только сгущала её вокруг в синие сгустки. Играла так называемая психоделическая музыка.
Это была одна из странностей Кобрина — любовь к психоделической музыке, музыке истеричной и наполненной особенной, не всегда приятной, но как бы ласкающей жутью.
Раньше Кобрин был женат и несколько институтских лет жил в общежитии с женой, никакого отношения к литературе не имевшей. Теперь жена бросила его и уехала, однако комната, разделённая на две части занавесками, подобранными в тон синим креслам, всё ещё держала, как тепло от натопленной печки, остатки особенного, нестуденческого, уюта.
Мы сидели вдвоём в полной, если не считать негромкой музыки, тишине. На столе стояла бутылка водки и один стакан, в который я, булькая и нарушая тишину, временами подливал себе приблизительно на одну треть — как раз на один хороший большой глоток, не много, но и не мало. Игорь в этот период не пил и, как всегда в такие свои периоды, несколько подчёркивал снисходительность своего отношения к пьяницам. Я хорошо знал Кобрина, и это меня нисколько не задевало.
Глубоко затягиваясь, так, что ещё резче ложились тени на его костистое, волчье, лицо, Кобрин курил анашу. Папиросы с анашой, или, следуя жаргону, косяки, были у него заготовлены заранее и аккуратно (в перерывах между срывами Кобрин бывал необыкновенно аккуратен) уложены в пачку из-под “Казбека”. В воздух полуосвещённой синей комнаты поднимался и плыл в сторону смолистый, приятно пахнущий дым.
— Вначале, — говорил он, — я должен заставить читателя полюбить моего героя. Я покажу, как он ест, как пьёт водку и как пьёт по утрам чай, отсыпая в чашку ровно две или три ложечки сахара. Как он пальцами осторожно снимает с горочки ослепительно белого сахара волосок, попавший туда от мешка, в котором хранился сахар. Как он ест яблоко, берёт его в свою руку, холодное и круглое, и чувствует его тяжесть, и вначале захлёбывается немного соком. Как, бреясь, смотрит исподлобья на своё отражение в зеркале, и лицо его, от того, что он следит за его выражением, становится более мужественным, чем всегда. Как надевает чистую рубашку, с удовольствием, неторопливо застёгивая пуговицы на манжетах, и ощущает, как выглаженные, ещё тёплые, манжеты приятно схватывают его широкие кисти, от которых по всему телу идёт ощущение тяжести и силы…
Здесь Кобрин на мгновение закрыл глаза, и на лицо его легла гримаса медленного и внезапно накатывающего наслаждения, которое вызывали анаша, музыка и собственные его слова о тяжёлом холодном яблоке и выглаженных манжетах на широких и сильных кистях. Продолжая говорить, он всё так же временами ненадолго замолкал, тогда, когда не в силах был, по-видимому, снести мучительное ласкающее чувство внутри, и иногда забывался на некоторое время и даже начинал подпевать магнитофону, хотя психоделические нежные садисты пели на английском языке, а Кобрин не знал английского языка.