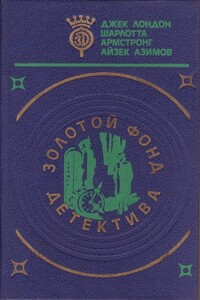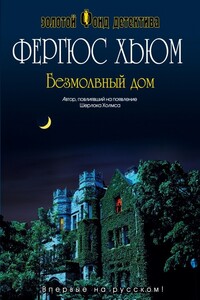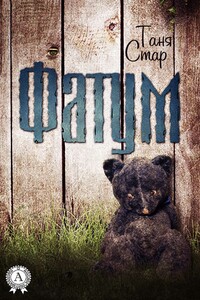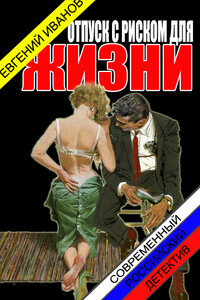Мы напрасно искали его в течение многих недель; он был для нас врагом неизвестным, неясным, почти призраком. Мы знали его настоящую фамилию и черты лица, однако все это тоже ничего не говорило и не проясняло. На фотографии оно было спокойным и неподвижным, словно посмертная маска. Мы знали, что он убил человека, двух, а может и трех — больше ничего. Какие у него привычки, какой характер, какие союзники, какие женщины?
Все эти вопросы мучили нас своей неразрешенностью, недостаток сведений затруднял, даже делал невозможным следствие, и вдруг, благодаря случайности, он оказался в наших руках. Мы ловили человека-привидение, человека без лица и биографии, будто он появился на свет только в момент убийства и только для того, чтобы убить.
Теперь в этой душной и тесной комнате я уже знал, как за него взяться и как его сломить. Он стоял передо мной, нагло улыбался, был уверен в себе и убежден, что многого мы не сумеем доказать. Наверное, если бы на основании неопровержимых улик прокурор потребовал для него смертной казни, если бы его подвели даже к виселице — все равно он, наверное, испытывал бы удовлетворение от того, что переиграл нас молчанием и хитростью, и посматривал бы в нашу сторону с презрением. Именно так, как глядел сейчас на мое забинтованное плечо: неделю назад оно было прострелено пулей из его пистолета.
Это случилось в отеле «Континенталь». Тогда я мог просто убить его, так как стрелял быстрее и лучше. Мог застрелить его и несколькими минутами раньше, когда, стоя ко мне спиной, он разговаривал с Моникой. Однако в этой столь неравной для меня игре я должен был рисковать собственной головой, потому что его жизнь ценилась тогда гораздо дороже моей. Ведь без показаний нам никогда не удалось бы распутать того сложного дела, в которое оказалось замешано так много людей. Только он мог вывести нас на них, он и никто другой.
Именно поэтому так неестественно поменялись местами наши роли: убийца мог спокойно застрелить меня, я же имел право только обезоружить и задержать его. Именно я, которого в тот самый день отстранили от следствия по этому делу. С тех пор прошла уже неделя, и пора, наверное, забыть обо всем, несмотря на жар и мучительную боль в плече.
Душно, чертовски душно было в этой унылой комнате, но открывать окно мне не хотелось. В гуле нарастающей бури молнии прочерчивали небо и отражались в запыленных стеклах, словно вспышки магния. Этот неровный блеск освещал его глаза: он снова смотрел на бинты, опутывающие мое плечо.
Иронически улыбаясь слегка искривленными губами, он, видимо, пытался установить, какая это была рана. Навылет, когда пулевой канал проходит через ткани насквозь, или «слепая», при которой существует только одно входное отверстие и пуля остается в теле? Я не сказал ему, что это было «слепое» ранение и что мое состояние не позволяло хирургу удалить пулю без риска для всего организма. Не мог я сказать и то, что ночью сбежал из госпиталя, чтобы довести до конца нашу затянувшуюся игру.
Да, в моем теле сидела пуля недельной давности, и меня не покидало странное ощущение, что все еще длится та доля секунды, когда в отеле «Континенталь» меня настиг выстрел его пистолета. Она как бы застыла во времени, и Марчук все еще стрелял в меня.
Сознание того, что хоть в чем-то он оказался сильнее, давало Марчуку ощущение перевеса, усиливало его уверенность в том, что я прикован к больничной постели. Если ему что-то и не давало покоя, так это удивление: надо же, в подобном положении снова появиться на его пути! Когда сержант Клос ночью привез его из тюрьмы, я уже ждал их в коридоре, у двери комнаты, где он убил человека.
Снова отдаленный гром и молния, отразившаяся в его прищуренных злых глазах. Я ненавидел его. Впрочем, он тоже относился ко мне не лучше: его схватили из-за меня, и поэтому он всей душой желал мне смерти. Я же появился здесь для того, чтобы подписать ему приговор.
Вряд ли кто-нибудь догадывается, какие сложные чувства связывают преступника с офицером, ведущим следствие.
Я сказал:
— Марчук, ни о чем не думай, только слушай…
— Моя фамилия не Марчук. Я уже сто раз говорил, чтобы вы не называли меня «Марчуком».
Я пропустил мимо ушей это заявление.
В связке ключей, свисающей с замка, был ключ от сейфа. Я взял связку и вложил нужный ключ в замок бронированной кассы.
Марчук наблюдал за каждым моим движением.
— Ты меня слушаешь?
— А вы ничего не говорите, — ухмыльнулся он, — Вы вообще либо ничего не говорите, либо говорите слишком много.
Наверное, виной тому был жар, но мне вдруг непроизвольно захотелось его ударить. Удержала меня не столько раненая рука, сколько сознание того, что я проводил уже сотни различных дел и встречался с сотнями циничных подонков, которые отрицали самые бесспорные факты. Но тем не менее у меня никогда не возникало желания ударить кого-нибудь из них. Это было чужое, не мое, непонятно откуда и зачем пришедшее чувство.
— Ты прав, Марчук. Только сегодня я скажу тебе больше. Столько, что ты не выдержишь.
— Вы мне как будто угрожаете? — спросил он. — Не понимаю.
— Поймешь через полчаса, — отрезал я. — А теперь слушай. Я уже рассказал тебе, как получилось, что кассир открыл дверь. Он спросил тебя о письме, потому что ты сказал, что у тебя есть какое-то письмо. Он потребовал подать ему конверт через щель приоткрытой двери. Тогда ты оттолкнул его и вошел в комнату. Так?