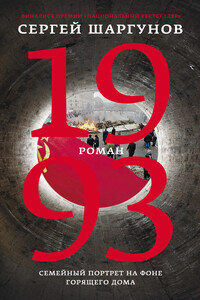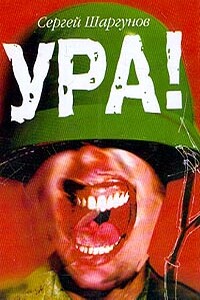Повесть
Пока он жив, увидим его живым.
Он спокойно всем тыкал: ты-ты-ты…
Перекрестье двух морщин на высоком лбу.
Он несколько лет сидел в Америке, в офисе, в Нью-Гемпшире. Компьютерная техподдержка налоговой компании. Его мужественную физиономию то и дело озаряла улыбка. Крупная и крепкая. При любой погоде – снежная. Улыбка пылала. Понимай как хочешь: морозилка американского супермаркета или наш деревенский сугроб. “Янки-витязь, – мысленно я обозвался, когда его увидел, – витязь-янки”.
Рослый ян-ви, плечистый ви-ян. Светло-русая борода. Ясные ребячливые глаза.
Тридцать восемь, пора разлива. У него была жена его лет и дочь была, 12, – два притока. Два прихлопа снежных варежек. В родных отражалось солнечное облако сильной улыбки. Улыбкой он то и дело награждал других, обнажая зубы до десен, и, казалось, так исполнял какой-то важный план, который – в скрипе сосен и ветре над морем, движении облаков и пробках больших дорог. Под этой улыбкой другие ему тоже начинали, расслабляясь, тыкать. Улыбка при всей непременной мощи менялась: чтобы понять, какая она – наступательная или оборонительная, – достаточно было заглянуть в Васины глаза.
Три года он жил в Америке припеваючи и насвистывая. Там грозил ему только рост. Но он поверил в Бога. Ему приснился русский иконописный Бог, дал во сне хлеб. Вера начала утягивать все глубже, в молитвенную бездонную глушь, и Вася решил: вернусь!
В Москве он отправился в первый попавшийся храм рядом с домом матери. Жена и дочь последовали за ним безропотно. Он стал алтарником и шофером при храме. Он все время держался храма, откуда выходил с неохотой, и сразу бежал в машину (свою, но уже не свою: черный “хаммер” пожертвовал храму). Зато внутри храма двигался привольно. Плавно вступал с тяжелой свечой на солею. Проплывал из алтаря сквозь темень люда, выныривал светлой головой посередке и читал молитвы, распахнутые на аналое, быстрым уверенным голосом.
Стены и своды белели, без росписи. В светлом стихаре с золотыми нитками, в тесном живом кругу, он стоял, русобородый и прямоносый.
Первый раз я его увидел однажды утром. Витязь, которого перебросило в наше время. Грубый луч солнца раздваивал сизо-дымчатый воздух. Частил чтец, но четко, четко. И вдруг подпрыгнуло деловитое “р” в слове “гордыня”, снова дернулось в слове “гроб”, округлилось, чванливое, в слове “виноградарь”, и все это на автомате: ты уже американец, Вася!
Нас познакомил мой папа-батюшка, настоятель храма. Вася мне помог. Сначала забрал из роддома моего сына Ваню и жену Аню, вскоре отвез их на дачу, а потом стал захватывать меня к ним. Он родился в этом поселке. У него было там два дома. В одном жили его жена с дочкой, а в другом предложил пожить лето Ане с Ваней.
…И вот пришла пора помирать. Был июль. Была оказия: Вася взял меня на дачу, он за рулем, я рядом, сзади мои приятели, которых я поманил за городскую черту.
– Болел? – спросил я.
– Болел.
– По тебе незаметно.
– Проснулся и встать не мог. Это кондишн надул. День полежал в доме причта. Уже нормал.
– Температура?
– Жар, еще эта… ломота… Кашлял. Я боялся, что воспаление легких. Вроде цел. Слабость одна… Да просто искушение!
– А не аллергия? – мечтательно отозвалась Ульяна.
– У кого аллергия? – взволнованно выкрикнул Петя.
Вася держал взглядом дорогу.
Надо рассказать про приятелей на заднем сиденье.
Петя раньше был физик, но, закончив МГУ, проклял науку и решил быть поэтом. Он писал обычно четверостишия, украшая ими даровые литературные сайты. Состязался в лирических интернет-забегах и каждый раз требовал высылать в его честь эсэмэски. Худощавый и малорослый, с наглым вздутым подбородком, он стригся “под ежик”, постоянно носил черный кожаный пиджак. В сереньких жидких глазах плескались рыжие крапинки ярости.
Ульяну он нашел в Йошкар-Оле. Но родом она была вятская. Запутанные маршруты большой родины. Увидел ее Петя на литературном вечере. Она тоже стихи писала. Песенные. Беловолосая, тонкокостная. Зеленоватые стебельки жилок на висках. Лукавый разрез зеленых глаз.
Ульяна ему не дала. Приглашенная им, въехала в Москву, в его комнату, делила с ним топчан, но отказала. Ужасно, признавался он мне, было лежать с ней ночами, отворачивая нос с похотливо раздутыми ноздрями, благородно опасаясь уснуть, перевернуться и навалиться, – сон расслабляет волю. Но самыми щекотными были покровительственные взгляды маменьки за завтраком, игривое: “Вы, молодежь, варенье-то накладывайте!” – и хулиганом-добряком подмигивал отец.
Итак, юные поэты ехали на заднем сиденье. Я обернулся к ним и подумал, что они выглядят как Васины дети. Они могли бы сойти за его детей. Их с ним роднила жертвенность лиц. Как они мне все были милы – остановись, мгновенье. Жизнь, дари только причудливое!
Стоп. Это сколько в часах? Примерно девяносто часов, учитывая, что нынешний, который я расписываю, день был подъеден. Я считаю расстояние до смерти водителя.
Солнце стояло высоко.
Я почему-то запомнил одну деталь. Встали в пробку. На дороге металась собака. Рыжая, хорошая. Колли. Потерявшая разум и страх, одинокой остроносой волной она носилась среди машин, лизала, представьте, колеса. Может, прокусить хотела? Как в порноролике мегаполиса, у нее выпорхнул язык и мазнул по шине, задержался на миг, розовый лепесток на темной резине, и глаза скосились сучьи: снято? Она хвостом