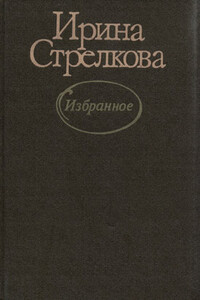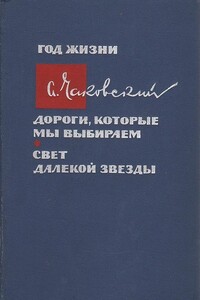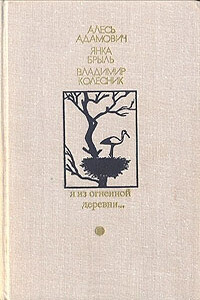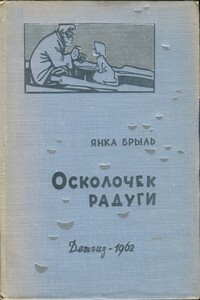Первый уход «в люди» начался у меня очень рано.
Был я тогда еще таким богатырем, что, выгоняя за околицу пеструю свинью, считал это полной рабочей нагрузкой. Щелкнул я как-то мокрым кнутом по ограде из колючей проволоки, а кончик кнута обмотался и застрял на колючке. Найти выход из этой беды, казалось мне тогда, было невозможно, и я заплакал, не выпуская из рук кнутовища.
Уже в то время отец мой, Петрусь Сурмак, вынужден был считать меня помощником в хозяйстве. И я пошел в пастухи к Бобруку, самому богатому в нашем Заболотье.
Это было весной двадцать пятого года. Помню, батька угрюмо шагал по деревенской улице, а по большим следам его босых ступней вприпрыжку семенил я. Поскользнулся на размокшей от дождя тропке и шлепнулся на руки в грязь.
— Ну, чего ты? — оглянулся отец. — Не падай духом, чудак человек…
А сам все хмурился.
Да и как тут не хмуриться человеку, который был трижды ранен, имел два георгиевских креста, командовал взводом при штурме Перекопа, а теперь, вернувшись в родную западнобелорусскую деревню, снова попавшую в лапы панов, должен отдавать в батраки своего семилетнего первенца?..
Вскоре я оказался за высокими серыми воротами Бобрукова двора, а отец ушел домой… Немало было потом ворот и калиток в чужих дворах, из которых я день за днем выгонял чужую скотину, но больше всех запомнились мне ворота, которые впервые закрыли от меня и родную хату и детское счастье. Собственно, не знаю, можно ли вообще назвать счастьем детство в голодной бедняцкой семье…
«Хилый он у вас, маленький еще, какая от него помощь!» — вздыхала Бобручиха.
Была она тетка набожная — каждое дело у себя в хозяйстве начинала молитвой из требника. Были в нем разные «чины» — молитвы и требы: и над гумном, и над печью, и над творогом, и над яйцами… И все они, как по заказу, очень ловко приноровлены были к нуждам Бобруковой семьи. «Освяти, приумножь, огради от врага», — вычитывала по складам Бобручиха, и заклинания эти произносились ею от души. Хозяева мои только и думали, как бы иметь всего побольше, больше, чем у других, больше, чем у врагов. Как-то один из этих врагов кинул Бобрукам в колодец дохлую ворону. И на этот случай в требнике нашелся соответствующий «чин», отправляемый «аще случится чесому скверному впасти в кладезь водный». Бобручиха проклинала и плакала, складывая старинные церковные слова, и ей в голову даже не пришло, что этой вороной мой предшественник, пастушок Леня Шарейка, отблагодарил их за горькую службу. В стаде Бобруковых свиней, которых я пас на выгоне, был один захудалый поросенок. Раз десять читала над ним хозяйка «молитву о скверно ядших», но, конечно, речь никогда и не заходила о том, что я жил впроголодь, ходил в лохмотьях, недосыпал, не мог учиться…
Мне было четырнадцать лет, когда отца привезли из имения на пароконной телеге. Он лежал, весь в крови, на соломе и только стонал, когда соседи снимали его и вносили в хату. Отец плотничал у пана, и его придавило у сруба бревном. Так и умер, не приходя в себя.
Я все еще был пастухом, правда, пас уже заболотских лошадей. Микола, младший брат, приучался пасти свинью, а Валюшка играла в песке у завалинки. И вот матери ничего больше не оставалось, как запрячь в хозяйство меня.
На пашне наша коняка никак не тянула. Я осыпал ее всеми проклятьями и мольбами, какие только мог придумать, стегал ее кнутом, а потом, плача, заходил вперед, хватал уздечку и исступленно бил по голове кнутовищем… Лошадь старалась выше поднять морду, путала постромки, а когда я наконец отпускал поводья, она крутила головой и вздыхала со старческой укоризной… А я садился на плуг, стараясь прийти в себя. Потом снова упрашивал лошадь идти, и она шла; мы тянули борозду до конца полосы, словно оба уже понимали, что другого выхода из этой муки для нас пока не видно.
Маме было не легче. Часто и со слезами ругала она меня лежебокой, рекрутом, хотя ни то, ни другое слово ко мне не подходило: я старался, как мог, а до солдатчины было еще далеко.
Но пришло и это время: забрали меня паны в армию.
Это был мой второй уход «в люди».
До железнодорожной станции от нашей деревни сорок три километра. И на весь этот путь у матери с лихвой хватило слез… Кончался март, уже распевали жаворонки. Не хотелось ни пить, ни шуметь, как положено рекрутам. Думал я горькую думу, что вот рос и никому не было до меня дела, а вырос — отыскали. Потом на станции, когда уже пыхтел паровоз и раздавалась хмельная песня «Последний нонешний денечек», мать все пыталась пробиться сквозь полицейский кордон, чтобы попрощаться со мной еще раз и что-то еще мне сказать…
— Так ведь мой хлопец там! — удивленно повторяла она на все их запрещения, никак не в силах поверить, что я уже осужден быть не ее и не своим, а их.
Но их я не стал.
Следом за мной в нашу часгь из полицейского участка пришла характеристика. «Мы тебя знаем, Сурмак! — кричал плюгавенький Копытко, наш капрал. — Ты хам и пана Езуса босого по жнивью гонял бы!..»
Как-то этот Копытко, прыгая, как воробей, перед строем, долго ругал меня то «быдлом с востока», то еще крепче, а потом, не стерпев моей улыбки, полез с кулаками. Тут уж и я не вытерпел: двинул его по-мужичьи в нос — и, разумеется, сразу попал за решетку. Толстенький прокурор с большущей саблей, похожий на сказочного петуха из детской книжки, без особого труда доказал «высокому суду», что все это «тайная рука большевиков», и мне отмерили, не поскупившись.