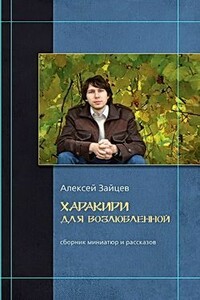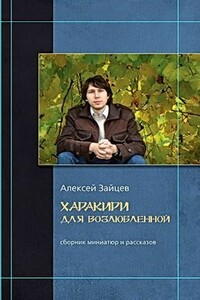Cборник статей «Вехи» (М. 1909) в досоветской леволиберальной и радикальной прессе, а также, разумеется, в советской официальной критической традиции оценивался как проповедь обскурантизма и знамя реакции. Может быть, отчасти и поэтому для опоминавшегося после долгого обморока российского исторического сознания «Вехи» априори виделись альтернативой всему тому, что советский официоз хвалил. Для эпох опамятования характерны подобные маятниковые оценки.
Какими же видятся тенденции сборника сегодня, когда прошлое постепенно перестает восприниматься думающими людьми только в двоичной системе (да — нет, хорошо — плохо, красные — белые)? Сегодня, через десятилетия после первой встречи, да еще на фоне событий конца 80-х — начала 90-х годов, «Вехи» воспринимаются как явление мировоззренчески не монолитное.
Авторы «Вех» люди разные: разных взглядов, с по-разному сложившимися в дальнейшем дорогами. Но все же их объединяет то, что, дистанцируясь от феномена российской интеллигенции как от некоей мировоззренческой и психологической общности, они именно к этой общности и принадлежат. Сегодня очень хотелось бы к ней, этой общности, присмотреться. Ибо как только советский образованный слой стал внешне свободным (навсегда ли, на время ли), как только перестали непрерывно постукивать в его подсознании колеса арестантских вагонов (так что и не разберешь: в дверь ли стучат, вагон ли уже отстукивает по рельсам или сердце колотится), так и начали оживать в «образованщине» рефлексы интеллигенции. Авторы «Вех» сложились внутри этого «ордена» все и к 1907–1909 годам преобразоваться в нечто духовно ему инородное не могли. Между собой они, как уже говорилось, во многом разнятся. Но ведь российская интеллигенция и не была мировоззренчески однородной. Напротив: она изобиловала непримиримыми фракциями. Авторы же «Вех» достаточно толерантны по отношению друг к другу, чтобы выступать под одной обложкой. Впрочем, В. И. Ульянов (он же — В. Ильин и Н. Ленин) и П. Б. Струве, один из виднейших веховцев, тоже когда-то выступали под одной обложкой и на общем газетном поле. Люди и их взгляды меняются.
* * *
Собственно говоря, свою принадлежность к интеллигенции декларируют и сами авторы «Вех». Н. Бердяев, к примеру, предвосхищая деление, введенное в обиход в начале 70-х годов Солженицыным, пишет [1]:
«Говорю об интеллигенции в традиционно-русском смысле этого слова, о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, давлением казенщины внешней — реакционной власти, и казенщины внутренней — инертности мысли и консервативности чувств, не без основания называют „интеллигентщиной“ в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова. Те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному, враждебному миру, тоже ведь принадлежат к интеллигенции, но чужды „интеллигентщины“» (стр. 1).
В обоих определениях («интеллигентщина» и «образованщина») общий суффикс перевешивает различие корней: в нем есть оттенок неуважения. Этот суффикс [2], сохраняя генетическую связь с исходными понятиями, противопоставляет обе «-щины» истинной интеллигенции и по-настоящему образованным слоям общества. Он близок по смыслу словообразующим элементам «псевдо» или «квази». «Интеллигентщина» — это воплощение недостатков интеллигенции, это, по сути дела, псевдоинтеллигенция, квазиинтеллигенция. «Образованщина» — тоже, потому что и Солженицын говорит ведь в конце статьи о наличии, о качественном и численном росте в России 60 — 70-х годов интеллигенции истинной.
В приведенных выше словах Бердяева интересны и следующие моменты: во-первых, «давление казенщины внешней — реакционной власти»; во-вторых, включение в число качеств «интеллигентщины» «инертности мысли и консервативности чувств».
Второе суждение выглядит неожиданным, но оно, как всякий истинный парадокс, верно. Речь идет о той «инертности мысли», которая не позволяет интеллигенции отказаться от ее традиционного радикализма, и о той «консервативности чувств», которая не дает ей сменить ниспровергательское мироощущение на созидательное, прогрессистское — на либеральное [3]. Такая инертность ума и такой эмоционально-оценочный консерватизм присущи обоим образованным слоям (российскому и советскому). Правда (и это отмечено Солженицыным в «Образованщине»), предшественница (российская интеллигенция) проявляла свои предпочтения открыто и пылко, порою жертвенно. Потомки же («образованцы») — преимущественно в латентных формах. Но ведь и гнет был несравним по силе и изощренности. Если судить по меркам 30 — 40-х годов, то в 900 — 10-х годах гнета и вовсе не было. Но по меркам еще не бывшего судить нельзя.
Именно эти отмеченные Бердяевым свойства мышления (радикалистская инерция и консерватизм «левого» прогрессистского перекоса) и заставили интеллигенцию обрушиться в одном случае на «реакционные» «Вехи», заговорившие о непривычных для нее ценностях, а в другом — на «ренегата», «обскуранта» и «ретрограда» Солженицына, обратившегося к ценностям и понятиям еще более непривычным, незнакомым, забытым, оклеветанным советской риторикой.