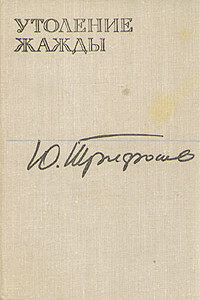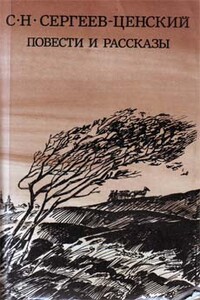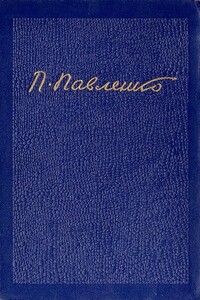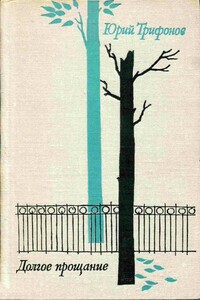Ехать было мучительно, мы сидели в трусах и в майках на мокрых от пота матрацах и обмахивались казенными вафельными полотенцами. Раскаленный воздух, набитый пылью и горечью, влетал в открытые окна и обдавал нас жаром, как из духовки. Слева ползли голые, отполированные солнцем горы Ирана, справа расстилалась пустыня. Редко чернели на ней кибитки пастухов, одиноко стояли верблюды, провожая поезд ленивым, вполоборота, движением маленькой головы.
Нас было четверо мужчин; один ехал со мной от самой Москвы и приканчивал двадцать пятую бутылку пива, двое других сели в купе ночью. Те, что сели ночью, были, по-видимому, строители. Мы разговаривали о пустыне. Каждый видел ее по-своему.
— Для меня это миллионы кубов сыпучего грунта, — сказал старший строитель, седой маленький человек, страдавший одышкой. — Я думаю о бульдозерах, которые подымут эти Гималаи песка.
— Для меня нет дороже места на всей земле. Ведь я родился в здешних песках, в районе Артыка, — сказал другой строитель, туркмен.
— А я не видел эту землю шестнадцать лет. Шестнадцать лет, шестнадцать лет! — повторял человек, уничтожавший пиво. И глаза у него были красные. — Вы понимаете, что значит шестнадцать лет?
А я молчал. Я ехал в пустыню потому, что у меня не было выхода. И я не любил ее, и не думал о ней, и не вспоминал о ней. Я вспоминал о другом. И, кроме того, меня мучила жажда.
Нагаев был не в духе. Его всегда сощуренные, щелястые глаза с воспаленными от зноя и песчаной пыли веками смотрели высокомерно и зло. Он отхлебывал из кружки горячий зеленоватый чай и в промежутках между прихлебываниями говорил, глядя на Мурадова в упор:
— Все одно, друг, я тебе разряда не дам. Валяй к другому переходи. К Марютину или к кому еще. А мне с тобой валандаться нет резона. Одни убытки.
Молодой туркменский парень Бяшим Мурадов, второй месяц работавший учеником на нагаевском экскаваторе, испуганно таращил на машиниста глаза и молчал. Кроме Нагаева и Бяшима за столом сидели два других машиниста, сменщики Эсенов и Бринько. Эти двое делали вид, что их не касается разговор Нагаева с учеником, и деловито тянули чай из кружек, отдувались и хрустели сахаром.
Было раннее утро. Солнце поднялось над барханами, но еще не пекло, а грело. Из-за лиловой песчаной гряды доносилось ровное гудение и судорожный лязг экскаватора: Марютин работал. И это еще больше усиливало раздражение Нагаева. Он не мог сидеть спокойно, зная, что кто-то в это время делает в забое кубы. Ему всегда казалось, что его обходят, отнимают у него кровное, хотя на самом деле никто из трех машинистов, да, пожалуй, никто во всем отряде и близко не подходил к нагаевским выработкам.
— Зачем убытки? Я хуже вас на рычагах сижу? — тихо спросил Бяшим.
— На рычагах сидеть и обезьяну научить можно. За одни рычаги разряд не дают. А машину ты знаешь?
— Зачем не знаю…
— Регулировать клапана можешь? А магнето установить?
— Я, Семеныч, всегда просил: покажи, как делать, — дрожащим голосом сказал ученик. — Сам не хочешь…
— Чего не хочу? Что болтаешь зря? — грубо повысил голос Нагаев. — Я не виноват, коли ты беспонятливый. Да еще машину калечишь. Сегодня опять головной блок смазать забыл. И этому я тебя не учил, скажешь?
Бяшим опустил голову. Его смуглое лицо побледнело, узкие губы подергивались.
— Твоя родная обязанность — за машиной следить, — сказал Нагаев наставительно. — Она тебе хлеб дает, понял?
Так как Бяшим не отвечал, а сменщики продолжали равнодушно пить чай, Нагаев умолк. Он высказал этому парню, раздражавшему его в течение шести недель, свое решение, созревшее давно и прочно. Пусть не надеется на разряд. А ежели недоволен — скатертью дорожка. Одному еще лучше работать. Теперь, высказавшись напрямик, Нагаев почувствовал облегчение, у него сразу повеселело на душе.
Он поднял черный, обугленный в костре кумган и, осторожно наклонив узкое горлышко, налил себе полную кружку чаю. Один Бяшим сидел за столом, безучастный к еде, и, отвернувшись, смотрел вдаль, где пески граничили с небом и тонкой, еще робкой каймой дрожал зарождавшийся зной.
— Ничего, Бяшим, поработаешь с Марютиным, он тебе разряд справит. Он мужик добрый, — сказал Нагаев примирительно.
Опорожнив кружку, он поставил ее вверх дном, аккуратно завернул оставшийся сахар в платок и встал. Вразвалку, закуривая на ходу, пошел к забою. Через несколько минут из-за песчаной гряды раздалось гудение второго экскаватора, заскрипел трос на блоке, и — прошла секунда — тяжело ухнул на откос первый ковш грунта.
Иван Бринько, плечистый, коричневый от загара, обросший двухнедельной золотой бородкой, искоса поглядел на ученика и сказал негромко:
— Ты, говорит, мне не нужен, а кубики твои, говорит, пригодятся… Эх, человек! — и плюнул через стол.
На другое утро приехал прораб Байнуров — бледный, остролицый, с громадным курчавым чубом, прозванный среди рабочих Лохматым. Байнуров недавно окончил строительный техникум, был молод, задирист, а в работе — болезненно щепетилен, ибо считал, что все механизаторы подозревают всех прорабов в жульничестве, и одно это сознание было для него оскорбительным. Нагаева он не любил особенно. Тот умел работать с нивелиром и после прораба всегда замерял вынутый грунт сам. Он делал это регулярно, в каждый приезд Байнурова, хотя за много месяцев мог убедиться, что молодой прораб работает безошибочно.