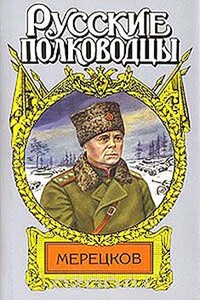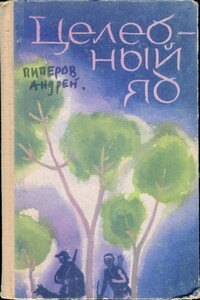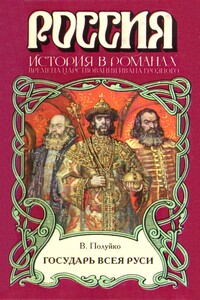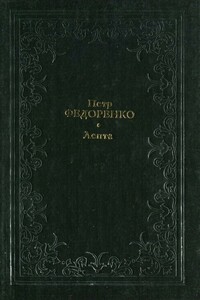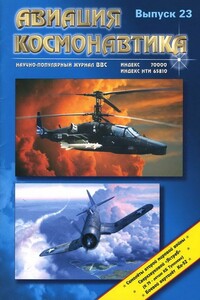Очерки, собранные в этой книге, при полной самостоятельности своей, составляют как бы естественное продолжение других моих очерков более раннего детства тех же героев деревенской «семибратки», изданных под заглавием «Барчуки», и хорошо известных многим моим читателям.
Эти новые рассказы мои, точно так же, как и «Барчуки», — не биография и не автобиография в строгом смысле слова, а свободная переработка свободною кистью художника живых и подлинных материалов давнего былого в характерные картины и типы, какие сложились в его художественном представлении сквозь поэтический туман невозвратного прошлого, до сих пор дышащего на меня бодрящими воспоминаньями детской удали, детских шалостей, детского горя, любви и радости.
В рассказах этих, наверное, многое покажется грубым и диким современному читателю и даже современному школьнику, незнакомым с нравами той давно протёкшей эпохи. Но я могу уверить их, что все герои этих эпических школьных подвигов, — и я, и сверстники мои, никогда не вспоминали иначе, как с добродушным смехом, а гораздо чаще с сердечным расположением тех своих чудаков-учителей и надзирателей-притеснителей, с которыми вели когда-то непрерывную ребяческую войну и над которыми проделывали свои мальчишеские проказы, нарисованные с полною откровенностью, во всей беспритязательной правде своей, — в предлагаемых очерках.
Евгений Марков
Бывало, ты в окружности
Один, как солнце на небе;
Твои деревни скромные,
Твои леса дремучие,
Твои поля кругом!
Некрасов
Отец мой, Андрей Фёдорович Шарапов, был хороший человек, и, кажется, его поминают добром. Хотя я многие годы сряду называл его «папенькой», однако всегда подозревал в этом слове какую-то противоестественность и какую-то обмолвку. Да, признаюсь вам, читатель, невозможно было переварить сочетание такого ласкательного и уменьшительного имени с тем грозным и грузным существом, к которому приходилось его прилагать.
Люди называли его не папенькой, а «барином», и — представьте себе — мне в течение всего моего детства постоянно казалось, что отец мой именно «барин» — и ничто другое. По крайней мере в моих глазах и до сего дня понятие о «барине» тождественно с представлением моего отца, так что при одном звуке этого слова в воображении моём невольно рисуются знакомые властительные черты.
Вид моего отца был характерный. Он был не очень большого роста, но очень плотный, очень тяжёлый на ногу и богатырски сильный. Где он находился, там всё было наполнено его особою. Не заметить его, не признать его было невозможно ни в каких обстоятельствах. Словно всё существо его было исполнено какой-то постоянной к себе требовательности, каких-то громогласных и нетерпеливых заявлений о себе. Словно оно сознавало везде и во всём своё центральное, господствующее значение, подобное значению солнца в системе миров, и на всех остальных людей смотрело только как на обращающийся вокруг него хор более или менее мелких и зависимых спутников.
Даже если отец мой делал только несколько шагов из своего кабинета, то уже весь наш большой деревенский дом переполнялся бесцеремонным шумом его барских шагов, и в самых далёких комнатах и стар, и мал знали и чувствовали, с встревоженным сердцем, что барин вышел. Когда же он являлся по утрам в своём бухарском халате, с длинною трубкою в руках и в торжковских сафьяновых сапогах, по-татарски расшитых золотом и разноцветными шелками, на балконе надворной стороны, то уже не только обитатели хором, а даже лошади в конюшнях и заводских денниках вздрагивали всеми жилками от гневного барского голоса, который начинал трубить свою грозную хозяйскую зорю по всем углам нашей обширной усадьбы.
Да, это несомненно был барин, каких теперь уже не найдёшь, — подлинный барин девяносто шестой пробы, с настоящею барскою поступью, настоящим барским голосом, настоящим взглядом барина. Не завидовал я, бывало, бедным кучерам, скотникам, ключникам и приказчикам, которые в роковой утренний час барского пробуждения попадались на глаза суровому владыке с каким-нибудь делом, а ещё хуже — без дела, среди двора. Довольно, если они чувствовали только половину того страха, который чувствовал я к этой осанистой пузатой фигуре, сверкавшей на них своими, неуходившимися до старости лет, чёрными как уголь, горячими как огонь, вечно гневными, вечно взыскательными глазами. Чёрные как смоль усы свирепого вида, по-военному загнутые кверху, чёрный повелительный чуб, высоко торчащий над зачёсанными к глазам чёрными висками, и тёмный бронзовый цвет лица, которого характерные морщины были врезаны глубоко и прочно, словно и взаправду были вылиты из какого-нибудь тяжёлого металла, производили впечатление до такой степени цельное и полное, так гармонировали и со всею этою властительностью, тяжеловесною фигурою, и с этим нарядом восточного деспота, и с угрожающим громом этого голоса, с гневными молниями этих глаз, что самые крепкие нервы приходили в невольное содрогание.
О, это был воистину барин, грозный барин! Я нисколько не удивлялся подслушанным рассказам моих дядей о том, как на дворянских выборах отец мой схватился спорить за что-то с губернским предводителем, и как оба кричали до того, что предводитель, человек тучный и более нервный, грохнулся без чувств на пол, будучи не в силах перекричать и переспорить моего папеньку. Я только удивлялся неосторожности и глупой дерзости бедного предводителя, который позволил себе вообразить, что такой грозный барин, как мой папенька, мог уступить кому-нибудь, когда-нибудь и в чём-нибудь. Нет. Он был всегда прав, а другие были всегда перед ним виноваты. Даже когда, бывало, при своих немного неуклюжих и бесцеремонных движениях он пребольно отдавил своей чугунной ступнёй ногу матери или кому-нибудь из нас, он никогда не признает ни своей неловкости, ни своей вины, и уж, конечно, и не подумает извиниться.