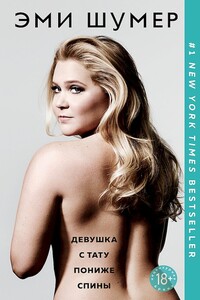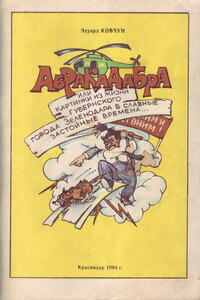Рустам Ибрагимбеков
У НАС НА УГЛУ
К голому, без штукатурки, зданию нашей школы примыкало здание главного управления милиции, и два этих дома возвышались над скученными одноэтажными строениями, кривыми улочками, большим пустырем, невольно образуя единый архитектурный ансамбль, вызывающий у суеверных родителей острое предубеждение против нашей школы.
По всему пустырю возле школы, способному сохранять на многие недели дождевые лужи, были разбросаны, а местами аккуратно разложены большие камни, по которым после особо сильного дождя скакали школьники и милиционеры, чтобы перебраться через бурный поток, низвергающийся на пустырь и близлежащие улочки с нагорной части города.
А через некоторое время, когда наконец жгучее апшеронское солнце справлялось с потоком и пустырь начинал местами проступать среди мутных луж, обнаруживалось, что нецензурное название из двух слов, с давних пор закрепившееся за низиной, в центре которой располагалась наша школа, удивительно точно передает ее своеобразие - пустырь оказывался заваленным консервными банками, всевозможным тряпьем, дохлыми кошками и другими дарами щедрого дождевого потока.
Так обстояли дела в первые послевоенные годы, и в те времена в нашей школе учились отчаянные люди. И я тоже тогда некоторое время был отчаянным человеком. Я хорошо помню, как я им стал, как я был отчаянным я как это кончилось.
В классе я был самым маленьким по возрасту, по росту, поэтому в школе я не мог позволить себе сколько-нибудь заметной отчаянности, дома меня во всем ограничивал мой старший брат - сам в достаточной мере отчаянная личность. Но все-таки и мне удалось в те славные времена, когда отчаянность была возведена в ранг основной человеческой добродетели, хоть и недолго, пожить, сознавая свою полноценность и уж во всяком случае, не ощущая своей инородности в тогдашнем мире отчаянных людей.
На пустыре возле школы я отыскивал среди луж что-нибудь,, отвечающее моим представлениям о современных средствах нападения, и направлялся домой, чтобы почувствовать себя смелым, сильным и уважаемым человеком.
Он сидел на низкой скамейке перед зелеными, с облупившейся краской, воротцами. Обсаженные редкими кустистыми усами губы его судорожно дергались вверх, вниз, в стороны, проваливались куда-то в глубь большого беззубого рта, чтобы, появившись под крючковатым носом, продолжить свое беспрестанное движение.
Он увидел меня, как только я обогнул сапожную будку метрах в десяти от него, и тут началось самое смешное - он никак не мог проскочить в ворота: в ужасе бился в них, наскакивая то на стенку, то на закрытую левую створку.
Проскочив наконец во двор, он спрятался за мусорными ящиками. (Теперь он будет время от времени выглядывать оттуда, чтобы выяснить, ушел я или нет.)
Пока я кидал в него крысу, подобранную на школьном пустыре, а он бился в воротах и кричал, все уже собрались, и мне следовало теперь, как обычно, подержать его за ящиками минут двадцать, сопровождая это оскорбительными приглашениями выйти на улицу и поговорить со мной по-мужски, один на один. Но очень хотелось есть, и я решил сократить ежедневную программу, компенсировав это короткой, но эффектной импровизацией, - сделал вид, что направляюсь к нему за мусорные ящики. А когда он метнулся к лестнице, ведущей в маленькую комнатку над воротами, где жила его мать - дворничиха Зейнаб, я затопал ногами и заулюлюкал, что привело зрителей в сильное возбуждение. Особенно сапожника Давуда, который смачно выругался и забросил во двор здоровенный камень.
Я вышел на улицу и, насвистывая свою любимую песенку "Крутится, вертится шар голубой", направился домой.
Все называли его Элли-грамм - "пятьдесят граммов" в переводе на русский, но настоящее его имя было Энвер.
- Элли-грамм, - говорила, например, его мать Зейнаб, когда по утрам, выбежав на улицу, он потрясал над головой кулаками, яростно проклиная солнце, - Элли-грамм, сынок, успокойся, оно скоро потухнет, недолго ему еще жить.
Но чем выше поднималось солнце, тем сильнее ненавидел его Элли-грамм, и к полудню он, разъяренный, метался на углу, готовый сорвать злобу на любом прохожем. Жертвами оказывались самые различные люди: мужчины и женщины, старые и молодые, штатские и военные, и даже милиционеры, но они все, одинаково крича, мчались вверх или вниз по улице, преследуемые Элли-граммом, - случайных людей ввергали в ужас неожиданность и беспричинность нападения, старожилы же боялись его обезьяньей ловкости, удесятеренной бешенством силы, и прогрессирующей мстительности.
Все боялись Элли-грамма, а он - меня, пятнадцатилетнего очкастого мальчишку. Выяснилось это в тот вечер, когда он чуть не задушил сапожника Давуда, наступившего ему на руку. Давуд очень любил наступать на руки пьяным. Элли-грамм пьяным не был, но почему-то на третий день после возвращения разлегся на улице под окном своей матери. Впрочем, причина такого его поведения всем приблизительно была ясна - Зейнаб уже давно рассказывала на углу о том, что ее сын Элли-грамм сошел в тюрьме с ума и его скоро выпустят. Давуд, очевидно, забыл об этом или страсть взяла верх над осторожностью, но так или иначе он наступил сперва на одну, а потом на другую руку Элли-грамма. И чуть не распрощался с жизнью. Не помог ему и большой сапожный нож, которым он не упускал возможности замахнуться на каждого, кто ему не нравился.