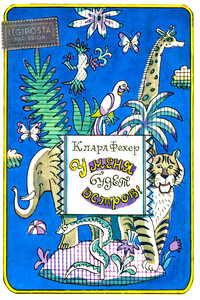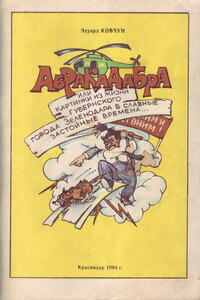Рустам Ибрагимбеков
ПАРК
День рабочий, а карьер почему-то молчит; не слышно противного визжания дисков, пыль за ночь осела, воздух приятно щекочет ноздри, ступни упруго отталкиваются от твердого грунта, взметая смерчики пыли. (Раскручиваясь, они соединяются в белесый шлейф, тянущийся вокруг карьера.) Тело наконец-то разогрелось, все в нем будто погрузилось в горячую вязкую жидкость, которая, плеснувшись, достигла и головы, - наступило состояние странной легкости, почти полета...
Воды на дне карьера прибавилось. Так, во всяком случае, отсюда, сверху, кажется. Она темно-зеленая от старости и проросла камышом. Если бы не три жутковатые на вид камнерезные машины, застывшие у самой кромки карьера, можно подумать, что эта гигантская дыра с неровно изъеденными краями образовалась сама по себе, как дупло в гнилом зубе, по крайней мере, пару сотен лет назад...
Блеснул единственным целым окном дом и напомнил о том, что еще не все готово к предстоящей встрече. (Только окно и отличает дом от соседних, вид у него такой же несчастный и покинутый).
Сокращаю программу бега на три круга. Кое-что уже сделано - двор прибран, коврик под деревом постелен, стол накрыт белой скатертью, - но надо еще нарезать мясо и нанизать его на шампуры, чтобы потом, когда она приедет, было меньше возни...
И рубашку погладить, И еще штанга... В общем, успеть надо многое...
Мясо в холодильнике подмерзло, пришлось выставить его на солнышко, чтобы оттаяло. Баранья ляжка, пронзенная шампуром и подвешенная на двух качающихся под балконом второго этажа гимнастических кольцах, напоминает геральдический знак могучего рода, члены которого из поколения в поколение сочетали увлечение спортом с обжорством.
Покрытое капельками пота тело начало остывать. Надо перед штангой размяться - теперь, когда соседи съехали, можно даже кулаками помахать, некого стесняться...
Вес на штанге наращивается постепенно, чтобы на максимальные нагрузки выйти в нужном состоянии. (Не может же она прийти раньше одиннадцати, впрочем, кто их знает, теперешних девятнадцатилетних.)
Стальной гриф под тяжестью блинов прогнулся, руки мерно ходят вверх-вниз, перестал колоть спину ворс коврика, растворились в небе пятна облаков, по телу разлилось ощущение беспредельности собственной силы...
Уха касается дальний шум мотора, стук автомобильной дверцы, торопливые шаги, скрип калитки. Над штангой нависает лицо Крошки. Чем-то очень взволнованного Крошки. Иначе почему бы ему не сесть, как обычно, в сторонке и с восхищением на лице не дожидаться, когда будут закончены упражнения со штангой?!
- Погорели премиальные! Ты в курсе!
Ну что с ним поделаешь, с Крошкой?! Учишь его, учишь хорошим манерам, и все без толку. Стоит ему взволноваться из-за чего-нибудь, как сейчас, например, и все воспитание слетает с него как шелуха. Впрочем, не его это вина. Человека надо с детства воспитывать, а чему мог научить бедного Крошку отец, всю жизнь продающий девятикопеечные мясные пирожки за десять...
Получив в ответ пренебрежительное движение головой - для любого тактичного человека этого достаточно, чтобы умолкнуть, по крайней мере, на несколько часов, - он даже глазом не моргнул. Нависая над штангой, таращит от возбуждения глаза и тарахтит без остановки:
- Ты не знаешь?.. Пришел приказ... чтобы мы завалили план наполовину... Точно... Квартальная премия летит, годовая летит... Я погорел. Где я достану три тысячи? Слышишь?..
Приходится все же его прервать:
- Отдохни немного, Крошка... Посиди...
Подействовало. Особенно тон, каким это сказано.
Интересно, куда он усядется? За стол? Нет, догадался-таки, что не для него извлечена из старого бабушкиного комода крахмальная скатерть... Садится на табуретку рядом с водопроводным краном. Самое солнечное место во дворе.
Все дворовые туберкулезники грелись на солнышке на этом самом месте, а может, даже на этой табуретке. Хотя, нет, вряд ли: та, наверное, давно сгнила...
Друг часами неподвижно сидел на ней, закутанный в какие-то платки, и сил его хватало только на то, чтобы время от времени отхаркиваться в жестяной тазик, стоявший перед ним на земле. Была ранняя весна. Все еще было голо, мокро от недавно стаявшего снега. На веревках висели зимние, поблескивающие нафталином пальто.
Мы наблюдали за тем, как отец, еще не снявший военную форму, выносил его на солнце погреться. И он покорно сидел, уставившись в одну точку, шестилетний старичок с запавшими глазами.
Черта мелом отделяла нас от него, тоненькая линия, которую мы никогда не переступали. Это было строго запрещено родителями, мы повиновались запрету, ибо дальше, за чертой, начиналось нечто непонятное и опасное...
Однажды он уронил яблоко. Лицо его обиженно сморщилось, вялый косой взгляд (почему-то голова у него тогда не поворачивалась, а может, он был чересчур туго закутан) следил за тем, как оно катилось по земле, пересекло черту и остановилось в двух шагах от нас...
Яблоко лежало у наших ног, но страшные туберкулезные па-дочки роились в воздухе сразу же по ту сторону черты, и каждый, переступивший ее, был обречен, по уверениям родителей, заболеть смертельной болезнью...