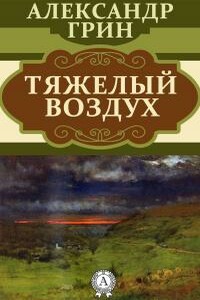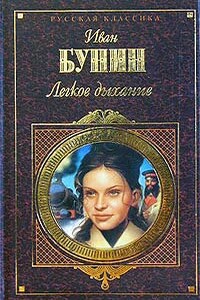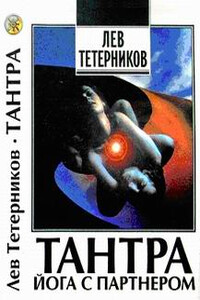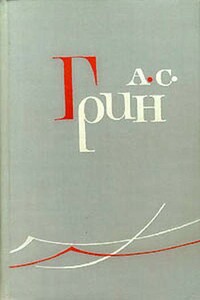Авиатор, напрягая окостеневшие от усилий руки, повернул к перелеску, промчался над зеленым мехом хвойных вершин, белой змеей шоссейной дороги, маленьким, как карандаш, бревном шлагбаума, увидел двойную черту рельс и понесся над ней, на высоте тридцати — сорока сажен с самой большей, какую мог развить аппарат, скоростью. Слева, уходя к пурпурному, гаснущему в облаках солнцу, расстилался сизый ржаной туман хлебных полей. Впереди, белея маленькой, как яйцо, церковью, открывалась даль. Справа теплился в низких лучах зари мохнатый, полный теней, лес. Внизу, под ногами летуна, время от времени шумел игрушечный поезд, а стрелочник с флагом в руках, задирал голову вверх, что-то крича стремительно летящему аэроплану, затем все пропадало, и опять в пустынной тишине вечера на высоте соборной колокольни несся над пролинованной рельсами насыпью, трескуче гудя, крылатый аэроплан.
Бешеная струя воздуха била авиатору прямо в лицо. Перед вылетом авиатор выпил бутылку коньяку, но не опьянел, а только начал особенно резко и отчетливо сознавать все: свое положение состязающегося на крупный приз русского летчика, высоту, на которой, параллельно земле, несся вдаль, воздушную пустоту кругом аппарата, стоголосый рев мотора и время. Часы, укрепленные перед ним, показывали сорок минут девятого; полет начался утром. Вместе с этими, имеющими прямое отношение к успеху или неуспеху, мыслями также ярко представлялось другое: шумный вчерашний ужин, музыка, присутствие высокопоставленных лиц, лестное в глубине души для детей воздуха, вчера еще никому не известных заводских механиков и электротехников; вызывающее оживление женских лиц, шампанское… Лезли также в голову разные пустяки, как, например, то, что машину Фармана кто-то назвал шарманкой, а летчик Палицын хлопочет о казенной службе.
Солнце село, ореол его, пронизывая светом сказочные страны зоревых облаков, сиял еще некоторое время пышными колоннами красного и золотого блеска, побледнел, осел ниже, загородился волнистой темнотой туч, вырвался из-под них пепельно-светлой щелью и погас. Аэроплан несся в прохладной мгле; снизу изредка доносились неразборчивые восклицания, крики; звуки эти, подымаясь на высоту, словно водяные пузырьки к поверхности озера, казались призрачными голосами пространства, потревоженного в своем величии.
С наступлением темноты авиатор стал волноваться. Рой маленьких и больших страхов летел рядом с ним, заглядывая в воспаленные ветром глаза. Сначала явилось опасение, что он собьется с дороги, затем, стараясь представить, в каком положении находятся летящие сзади соперники, авиатор видел их то нагоняющими его, то отстающими все больше и больше; невозможность определить действительное расстояние между собой и ими приводила его в состояние мучительного беспокойства и раздражения. Конечный пункт бешеной гонки находился теперь не далее сорока верст, а призовые деньги, казавшиеся в начале полета чем-то очень еще сомнительным, рисовались теперь авиатору во всей силе почти взятого крупного капитала, были близки, принадлежали ему, он думал о них, как о своей собственности. Эти деньги ему были нужны чрезвычайно; в течение последних месяцев Киршину не удалось взять ни одного, существенного по сумме, приза, он жил неаккуратно получаемым от фирмы жалованьем, и для зимы нужно было сорвать этот, по-видимому, дающийся приз, так как маленькая, но обладающая здоровым аппетитом семья авиатора начинала уже залезать в долги. Сын учился в дорогом специальном учебном заведении, а дочь перешла в пятый класс гимназии, стремительно вырастая из всех своих чулков, платьев, пальто, как разбухающая весенняя почка рвет тонкие растительные покровы. А для того, чтобы жизнь семьи не текла мучительно, в постоянных заботах и ухищрениях, нужны были деньги.
Стремительный гул мотора кружил голову. Еще быстрее, чем мчался над невидимой землей аппарат, быстрее винта, делающего сотни оборотов в минуту, летела тревожная мысль, опережая аэроплан. Авиатор вспомнил, что между шестью и семью часами обогнал его барон Эйквист; барон мчался наперерез; со стороны было похоже, что плавно взмывает к небу огромный белый конверт с головой Эйквиста на переднем обрезе; конверт взял большую высоту; в голубом небе были еще видны тонкие очертания машины, как вдруг, совершенно отчетливо, глядя снизу вверх, авиатор увидел, что винт баронова аппарата из мелькающего прозрачного круга, потемнев, превратился в ясно обрисованные неподвижные лопасти.
«Падает», — с тупым равнодушием гладиатора подумал летчик; не вздрогнул и не обрадовался, но что-то вроде веселого страха овладело его душой; конверт же, плавно описывая круги, невредимо опустился на пашню, голова барона по-прежнему чернела в белизне аппарата, полная, вероятно, немого ужаса.
Авиатор пролетел над ней, стиснув зубы и думая, что вот одним конкурентом меньше. Но, вспомнив, что с ним может случиться то же или еще хуже, пожалел Эйквиста.
Теперь, когда никто больше не летел впереди него и, следовательно, от прочности аппарата, состояния погоды и выносливости самого летчика зависел окончательный успех в состязании, авиатор, пугаясь назойливых представлений, отталкивая их, но этим еще более подчиняясь их власти, увидел себя падающим стремглав, головой вниз. Он и его товарищи постоянно думали о катастрофе. Слово это, соединенное с опасениями, печальной тенью неотступно царило в их душе, укрепляясь частыми газетными сообщениями и слухами; именно так спит и ходит с мыслью о неурожае крестьянин, отряхивая вечером сошник, а утром выходя во двор смотреть из-под руки небо. Чем больше делал авиатор полетов, чем успешнее, эффективнее и благополучнее совершал он самые рискованные предприятия, тем прочнее сживалась его душа с неотступной печальной тенью.