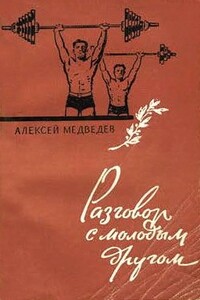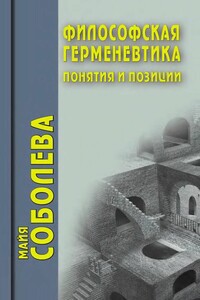«Быстрей, быстрей… секундочку… быстрей… может, все… как это возможно… сейчас все будет… я чайка… не то… осторожней… эй… люди-люди… осторожней… больно… больно, сволочи!
Что это, Господи… упала… упала… ой, ой… о Господи.
Любопытные. Смотрят. Отошли. Люди в милицейской форме. Разглядывают. Шепчутся. Эй. — Не слышат. Машина какая-то. Может, кто из знакомых? Нет. Скорая. Щупают пульс. Что? — Умерла. Как умерла? Подняли. Кладут на носилки. Машина рванула. Ой! — чуть не свалилась. За кого они меня принимают? За труп? Я все вижу. Я слышу. Ерунда какая! Ерунда…»
Так думала Лиза. А я знала, о чем думает Лиза и что она чувствует. Я даже могла сказать: «Здравствуйте. я — Лиза!». Хотя я, конечно, не была Лизой. Но стала свидетельницей той сцены.
Так и хотелось крикнуть: «Скажи им, Лиза, скажи громко!» Но я понимала, что кроме меня никто Лизу не слышит. Мне и самой было первое время не по себе. Но ко всему человек привыкает, даже к тому, что он не похож на других и знает то, что другим неизвестно. Это касается не только веры и идей, но также чувств и состояний.
Было полдевятого вечера, конец августа, когда я подъехала на такси к остановке автобуса. Подземный переход был огорожен полосатой лентой. У милицейской машины стояла группка людей и несколько милиционеров. Проходя мимо, я успела заглянуть внутрь перехода. На бетонной стене была распластана человеческая фигура. Голова с ярко рыжей, почти красной гривой волос и тело в светлом плаще. Ноги в высоких сапогах сползали по ступенькам вниз. Как стекающий циферблат на моей любимой картине Дали «Постоянство памяти».
Человек не может так лежать. Противоестественно. Только если человеческая тень.
Меня окликнул милиционер: «Опознаете?»
«Нет, что вы».
«Тогда идите отсюда. Здесь трупак, нечего смотреть. Не мешайте нам свидетелей допрашивать!»
Я взглянула на свидетелей — два черноволосых, сильно тушующихся человека в рабочих спецовках. Неподалеку стояли жильцы ближних домов. Переговаривались. «Да она с шести вечера здесь висит. На крюке из-под перил. Старые перила сняли, новые не положили. А эти, в форме, протокол составляют». «Несчастный случай?» «Да какой несчастный! Так просто на крюк не налетишь. Помогли!»
Опознать я, конечно, не могла. Я никогда не была знакома с погибшей женщиной. Но я слышала ее голос и чувствовала всем существом. Об этом я не собиралась говорить участковому. Этого участкового я недолюбливала. И толку от него было мало. Для всех.
Придя домой, разделась. Стянула туфли, прошлепала в комнату и плюхнулась на диван. Ноги благодарно загудели. Потом резко поднялась, прошла к телефону и набрала соседку: «У нас в переходе женщина висит на крюке из-под перил. Говорят, несчастный случай».
«Еще один труп? — нервно задергалась она, — с неба, что ли падают? Вчера у метро тоже лежал один! А кто-то, я слышала, сразу двоих нашел у себя в огороде, в самолетных креслах, с пристегнутыми ремнями! Женщина вышла на крыльцо. Смотрит — сидят, прямо на грядках…»
«Все, идем к депутату! — не выдержала я. — Не могут починить перила в переходе! Сволочи».
Положив трубку, попыталась расслабиться. Но информация о погибшей женщине не отпускала, поступала из неведомого источника, словно посланный анонимом факс… Кажется, ее зовут Лиза. Да, точно, — Лиза. Она бежала к переходу. В сумке лежали какие-то важные документы. Вижу две. мужские фигуры. Ага, ее нагнали двое. Как только она ускорила шаг и стала спускаться в переход, они толкнули ее. Она полетела вниз, поскользнувшись на ступенях. Получив еще один удар сбоку, насела шейными позвонками прямо на крюк, на котором еще неделю назад лежали старые перила. Боль, жжение, шум в ушах. Но все это, словно в тумане, под анестезией. Ей было даже любопытно наблюдать со стороны. За собой и за всеми вокруг. Мир, не подозревавший, что за ним наблюдают, был открыт. Открыт…
Точка. Информация о бедной, несчастной Лизе оборвалась. Ну и хватит! Устала. После контакта с необъяснимым адресатом жутко захотелось есть. Взяла из холодильника кусок любимого вонючего сыра и, отломив горбушку от белого багета, принялась жевать. Ах, хорошо… Вот так бы и жить! Жевать то, что вкусно. И думать о том, что понятно. Запить бы чем-нибудь. А, вот и остатки красного. Смочив свой легкий ужин вином, почувствовала, что обретаю земную рассудительность и силу. Можно и о себе поразмышлять. Что дальше-то со всем этим делать?
Оставив Лизу, я переключилась на себя. Кнопку нажимать мне не пришлось. Переключилась — значит перестала думать о Лизе. И чувствовать то, что чувствовала и думала она. Эмпатия — так называется это свойство: способность проживать эмоции постороннего человека, как свои собственные. У актеров умение поставить себя на место другого человека и переживать то же, что и он, развито сильнее, чем у остальных. А у меня патологически сильно. Можно сказать, аномально. Еще в детстве меня не могли успокоить, когда я рыдала из-за подруги Гальки и подруги Верки. И ту, и другую били родители. У меня поднималась температура. И мне вызывали врача. А однажды я так убивалась из-за воробья, у которого что-то сломалось и он не мог летать, что мне вызвали в детский сад психиатра. Я трое суток говорила только о воробье, ничего не ела и не играла с другими детьми. Какая-то добрая воспитательница, решив, что меня могут отправить в психдиспансер, сжалилась и предупредила, что если меня спросят про воробья, то я не должна о нем говорить. И я молчала. Но это была уловка. Я долго не могла забыть воробушка и отказывалась есть. Когда я выросла, то моя способность к сопереживанию приобрела совсем болезненные формы. Я то и дело рыдала, примеривая на себя судьбу киногероинь. Мой бывший муж перестал ходить со мной в кино. Я ему мешала во время просмотра: начинала копировать приступы удушья, случавшиеся с героиней на экране. Или закрывала лицо, если героиню хлестали по щекам. Бросалась к мужу на плечо, зажмуривалась, повторяя: «Не надо, не надо!» Муж недовольно вздыхал: «Ну вот, опять!» Он не выдерживал, и мы уходили, не досмотрев фильм. Так вот, теперь эта моя болезнь, или особенность, приобрела новые формы.