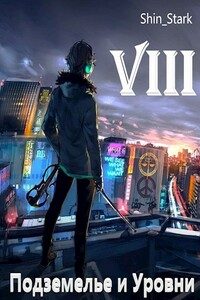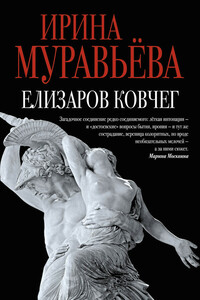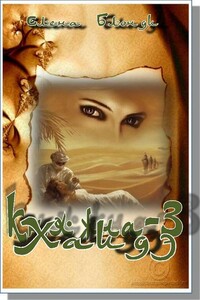– Сердце сбилось за секунду до того, как заныл звук гонга…
Внутренние часы, мерно отбивая куски жизни, отламывая их и выбрасывая в темноту под ногами, как в ночную воду сколотый лед, досчитали до неизменного. А больше им нечего было считать.
Как всегда, она заплакала, уже привычно, не замечая, как намокают щеки и лишь чувствуя капли, когда упадут – на сгиб локтя, на колено. И плача, так же привычно поднялась и пошла в темноте, наизусть ставя босые ноги.
Слева на третьем маленьком шаге – выбоина в полу. Обойти… А когда-то, трогая стены и раскрывая глаза до боли, становилась на колени и жадно ощупывала маленькую выемку в надежде. Вдруг – хоть что-то. Но просто ямка.
На пятом шаге пальцы ноги коснулись ступени, а сверху и отовсюду упал тяжкий удар гонга – первый. Бам-м-м… И шесть – по числу невидимых ступеней. На верхней площадке встала прямо и, слушая кожей затихающий ной, вытянулась, поднимая руки, чуть согнула колено. И, повторяя раз и навсегда сделанную ошибку, въевшуюся теперь в последовательность действий, как пыль со стен в кожу ладоней, спохватилась заученно, сунула палец в рот и быстро, по кругу, смочила между ног слюной…
Он не слишком различал ее запахи. И это спасало от наказания.
Стоя струной, смотрела в темноту жадно, боясь пропустить, и сердце лезло в горло, толкало, мешало. На сердце злилась – если собьется не вовремя, заставит покачнуться, отвести взгляд, то свет из двери будет потерян. И тогда черная пропасть до следующего удара гонга. Нескоро. Идти через темноту… Мыслями, которых уже почти не осталось, через еду, что всегда одинакового вкуса, через теплый душ с потолка – всегда одинаковый.
Был еще танец. Тоже привычный. Все тяжелее поймать новое и удержать его. Когда-то, боясь безумия, она цеплялась за память, перебирала и думала, заставляла себя: цвета, цветы, небо, камешки под ногами, запахи, шершавость бумаги, звуки, – разные, не только гонг и музыка ее танца…
Все тяжелее было удерживать то, чему нет подтверждения. Память текла ручьями, размывая бывшее. Уносила… Она боялась подумать о том, что унесено почти все. На опустевшие места ставила то, что гнала от себя раньше. Ставила плохое в теплые еще от хорошего гнезда. Крики и дым, кашель, резь в глазах, и где-то далеко, затихая и всплескивая до ломоты в висках – детский плач. Имя дочери забыла. Недавно совсем. Или давно? Наверное, давно, потому что ушло сожаление об этом.
За секунду до музыки она развела руки и, рисуя пальцами формы, двинулась в танец. Один и тот же. Навсегда. Время, когда она меняла рисунки рук и движения ног, кончилось давно. Вместе с наказаниями за изменения. И время, когда наказания держали ее на плаву, тоже.
Вот! На втором повороте, подавая в сторону бедро и вытягивая носок ноги, взмахнула руками, свела в неслышном хлопке ладони, и прямо по линии взгляда проистек свет. Налился бледным овалом внутри темноты, стал выпуклым и, как всегда, в уходящей за спину времени бесконечности, подарил нестерпимое счастье глазам. Счастье тянулось резиной, дрожало в подсохших слезах, длилось ее собственной бесконечностью, которую она умела. Научилась ей.
…Кончилось счастье света, когда черный силуэт, возникнув, заполнил углами и выростами бледное пятно и стал увеличиваться, приближаясь. Свет умер.
Осталась музыка и немного танца. Его шесть ступеней, и она должна остановиться, вытянув руки, поставив ноги чуть врозь, откинув голову. С недавних пор отросшие волосы стали касаться ягодиц, и это тоже было счастьем. Новое. Она старалась не сбивать дыхания, вдруг заметят и волосы обрежут. Смаковала тайком, чуть заметно поводя головой. Новое. Пока еще новое. А потом, надеялась, будет что-то еще. Неважно уже плохое или хорошее, пусть – новое. Музыка стихла, превращаясь в касание Хозяина. Он, склоненный, обнюхивал кожу, дышал мерно, похрипывая на выдохе и она представляла, что где-то там, внутри его горла, пластинка сухая и тонкая, трепещет от воздуха, который он, забрав, отпускает обратно, дав ему запах своего нутра. Выдохи щекотали живот и бедра, и она жалела, что нет там ноздрей, потому что поймать запах, когда голова откинута, почти невозможно. Время запаха – позже, когда Хозяин поднимется и встанет вровень с ее лицом. А после он уйдет и заработает вентиляция. Сидя на корточках в ожидании верхней воды, она будет жадно вдыхать привычный запах, стараясь и в нем найти новое. Но он всегда один. И пластинки – у всех. Так она знала, еще когда билась и пыталась выстроить новое сама – телом, поступками, голосом, непослушанием. Узнала, когда получала наказания. А сперва думала, вдруг болен и когда-нибудь умрет. Мысль была сладкой, как кость для пса, и она грызла ее, пока не слизала всю надежду незнания. За невкусностью и бесполезностью мысль позабылась, и ее унесло водой памяти.
Как всегда, он остался удовлетворен запахом ее влаги. И взял ее. Жестко и мерно толкая, вдвигался, держа за плечи и бедра. Нижние руки, вмявшись в кожу, оставляли рваные ссадины, всегда чуть разные и она затаивалась, дрожа, предвкушая, как в темноте будет ощупывать их, подносить к носу мокрые пальцы, дышать запахом крови. Недолго. После воды ссадины заживали прямо под руками…