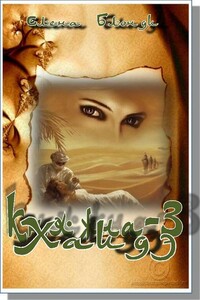Через сверкание далекой воды пролетела черным силуэтом чайка, чиркнула по серебру крыльями, пронесла по камням легкую тень.
Петр прищурился, потер лицо рукой, отшагнув, покачнулся, когда из-под ноги выскочил камень, катнулся по неровностям и поскакал вниз, исчезая за серым краем скалы. Сбоку кто-то вскрикнул. Петр, поморщившись, тут же широко улыбнулся, кладя кисть на край этюдника. Нашел глазами светлую фигуру, кивнул, мол, все нормально. Девушка, спрыгнув с камня, подошла, торопясь и округляя свежий рот.
— Я та-ак испугалась!
Он пожал плечами, вытирая руки мягкой тряпкой. Щеки уже болели от улыбки.
— Не стоит, что вы…
А она, ласково поглядев, вдруг замахала тонкой рукой кому-то за его плечом.
— …милая, — закончил Петр вслед быстрому мельканию светлого платья.
В рамке изогнутых иголок, почти черных на фоне сверкающей синей воды, двое уходили в сторону, вот мужчина придержал девичью руку, спутница ойкнула. Повернулась, найдя глазами художника и улыбнувшись ему, спрыгнула. Исчезла. Как тот камешек, что канул вниз по склону.
— Зато она тебе улыбнулась, — пробормотал Петр, отпуская, наконец, скулы, — со значением…
Вяло посмотрел на рисунок. Полная чушь, чушь и хрень. По сравнению с тем, что торжествующе деется вокруг, слабо и ненастояще. Что случилось с тобой, Петр Игоревич, свет ты мой, Каменев? Где твои фирменные смелые линии, где то, что кричит цветами и оттенками?
— Кричало.
Он сгреб кисти, собрал этюдник, кинул на плечо кожаный ремень. Хмуря брови и шевеля губами, пошел к узкой неровной тропке, укрытой разлапистыми зеленями можжевельника. Ругался.
Инга выдохнула и медленно встала, провожая глазами высокую фигуру в цветных шортах и испачканной на боках белой майке. Мужские плечи перекосились под тяжестью ноши. И она, так же, как он, шевеля губами, машинально рукой поправляла свое плечо, пустое, без ремня, будто помогала нести.
Отводя ветки с плоской неколючей хвоей, Петр вдруг оглянулся. Успел увидеть быстрый взгляд, темные волосы, непонятно мелькнувшие, движение чего-то белого на загаре. Закачалась густая ветка, опушенная тысячью длинных иголок. Пожал плечами, ступил по тропе вверх, и ветки закрыли все, кроме загорелых голеней, щиколоток, обхваченных кожаными ремешками, шлепнула подошва и тоже исчезла.
Инга, не удержавшись на корточках, упала спиной на острые каменные края и снова выдохнула. Успела. Не заметил. Закрыла глаза и стала идти вместе с ним, прослеживая узкую тропку шаг за шагом.
Вот двадцать шагов вверх, через сосновые ветки. Потом по извилистому асфальту через старый парк, там стволы высокие, и между ними слышны голоса и море. Дети кричат. Взрослые переговариваются. Смех прыгает между коричневых стволов, укрытых понизу тонкими ветками кустарничков.
Три поворота, на одном беленький киоск с мороженым и пирожками. И снова тропинка, уже на улицу, где снимает жилье. Жалко, что это не ее улица, а соседняя. А может и не жалко. Потому что из Ингиного двора, если залезть на крышу сарайчика, и пробраться к самому краю, а там оттянуть толстую ветку дуба, виден угол дома теть Тони, и рядом с ним — колонка. Наверное, он умывается там, у колонки, как это делают мужчины, плеская в лицо и на плечи серебряные горсти воды, фыркает, как молодой конь. А ни разу не видела. Не сидеть же на сарайчике целый день, Вива быстренько ее вычислит. Станет спрашивать. Но разве можно говорить с ней — о нем.
Инга открыла глаза и выпрямила спину. Корявый камень надавил лопатки, кожу дергало и пекло. И что она про сарайчик, ведь не додумала, как дошел!
Оттянула краешки шортов, и села, по-турецки скрещивая ноги, сложила руки на блестящих коричневых коленках. Серьезно закрыла глаза, опушенные по тяжелым векам жесткими ресницами. Значит, так… Он уже прошел мимо трехэтажного дома Ситниковых, потом поздоровался с теткой Фэрой, она весь день во дворе. Помахал рукой толстой Надьке, которая сидит под вишней, тряся ногой красную коляску. И, наверное, как всегда делает, понюхал розу, закатил глаза, чтоб Надька гордо захихикала. Вроде она сама эти розы сажала. Отличные розы, штамбовые, алые, как те паруса у Грина, и пахнут. Это Вивин Саныч привез и посадил сперва у себя, а потом уже у него весь поселок растаскал. Тут все так. Посадит тетя Маруся клематис, сезон погордится, какие дивные фиолетовые цветки, с ладонь размером, легкие, как бабочки. А на следующий уже год по всем заборам такие же цветы. Так что, зря он Надьке восхищается.
…А теперь он зашел во двор. Свалил свое волшебное добро на ступеньки крыльца.
Инга вздохнула. Вот сейчас бы ей на крыше сарайчика. Но на веранде их дома сидит Саныч, сьорбает чай, ведет с Вивой умную беседу, а та ахает и ждет Ингу. Конечно, на их глазах на крышу не полезть. Ну, зато можно представить себе, как он там, у колонки. Наверное, и майку снял. Руки у него красивые. И плечи.
Она открыла глаза. И вздрогнула, когда в плечо больно ударилась сливовая косточка. Сжала губы, посмотрев на каменную грядку с краю поляны, встала, отряхивая шорты.
— Что, Михайлова, не выходит каменный цветок, а?
Инга подхватила брезентовую сумку, кинула на плечо.