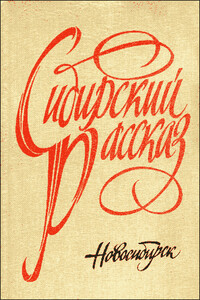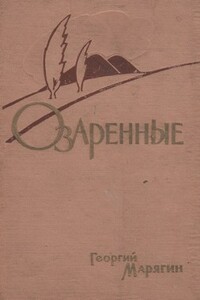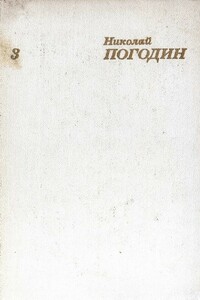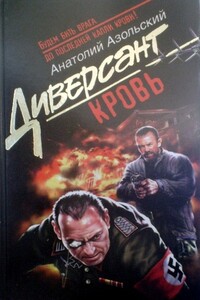— Орфей, говоришь? Ну ничего… Для лошади подходяще. Для мужика, конечно, не очень. А для лошади в самый раз. Это ж по-какому будет? По-немецки или по-американски? Имя-то мудреное. Тпрр… Да стой ты, шельма!
— По-гречески «отец».
— По-гречески? Ишь ты, знатно.
И его назвали Орфеем.
Оранжевый шар солнца выкатился из-за крыш близлежащих домов и повис в сизой дымке морозного неба. Было где-то около девяти часов, когда Орфей выкидным шагом прошел мимо конюшен, прошел с достоинством, глухо ударяя коваными копытами о промерзшую, припудренную первым снегом твердь дороги. Он не знал, куда его ведут, но зримое внимание людей, доброе похлопывание хотя и настораживало, однако приятно будоражило кровь и наполняло его лошадиное существо чувством гордости и значительности. Конюшни, такие понурые и печальные в недавние осенние дни, сейчас неузнаваемо чистые, убраны мягкой шалью синеватого снега.
Скрежетно отмыкаются засовы, конюхи растаскивают створы конюшенных ворот. Это как команда: «Приготовиться!» Скоро начнут выводить. А пока пусто. Жаль, конечно. Никто не видит, как напористо он идет, ни одна лошадь не ободрит его громким озорным ржанием.
Он не был баловнем судьбы. Его не объезжали лучшие наездники, и имя Орфей никогда не вспыхивало на световых табло лондонских и парижских ипподромов. Все было намного проще и естественнее. Непроясненной масти: не то гнедой с примесью грязной рыжины, не то ржаво-рыжей, замешанной у холки и на крупе до глухой черноты, он был почти что полосат и потому приметен среди одногодков.
Люди разглядывали его без привычного восхищения, скорее недоуменно, поражаясь причудливости природы, так странно распорядившейся окрасом лошадей мешаных кровей, но кровей достойных (все там было: и ахалтекинцы, и дончаки, и орловцы). Он соединил в себе возможные отклонения от привычных стандартов: был крупноголов, шире положенного в груди и ноги имел ширококостные — угадывались сила и выносливость. И наверное, в насмешку или сознательно бунтуя против отклонений от норм узаконенной лошадиной красоты, ему дали красивое имя — Орфей.
Родился он на известном конном заводе в средней полосе России, куда по сию пору наезжает разноязыкий люд, привлекаемый шумными лошадиными торгами, а то и просто так, из любопытства, обуреваемый страстью к изысканным увлечениям.
Заводу было лет двести от роду, строения обветшали порядком, новых долгое время не строили, а когда спохватились, уже и подновлять, ремонтировать было нечего — рухлядь, труха. Проще срыть все к чертовой матери и построить заново. Так появились новые конюшни, демонстрационный манеж и контора.
Орфею довелось оказаться на стыке этих временных событий — отмирания старого и нарождения нового конезавода. Его всегда удивляло обилие праздных людей, они без конца бродили по конюшне, заглядывали в денник, заставляли беспричинно волноваться. Со временем он привык, лениво разглядывал нескончаемую череду зевак, мог даже спать в их присутствии. Понял и успокоился: там, где есть лошади, должны быть люди. Много людей.
Спокойным и благополучным всегда казалось лето. Летом табун угоняли в луга. О лошадях будто забывали на время. И тогда, предоставленные сами себе, они жили по своим законам. Умудренные жизнью кобылы отгоняли от себя жеребят, а те сумасшествовали вволю: ватажились, табунились, будто знали заранее, сколь быстротечно людское забвение.
Орфей носился по зеленым лугам, подолгу простаивал у реки, смотрел, как искрится на солнце вода, как ветер сметает желтый песок с рваных берегов. Ему думалось, что где-то он уже видел этот сыпучий песок, только там он был другим, белым, и солнце было другим, и небо. Он беспокойно оглядывался, но кругом были все те же луга, качался ивовый куст, далеко-далеко над водой курился сизый дым.
Там же на конезаводе он прошел выбраковку и по причинам скорее коровьего, нежели лошадиного, окраса (хотя на ходу показался) был определен на внутренний рынок и четырех лет от роду очутился в Москве, в школе верховой езды.
Привыкать было трудно. Людей стало еще больше. Каждого приходилось различать по запаху, по походке, по одежде.
Очень скоро он понял — привыкать надо ко всему: к манежу, убранному пружинистым ковром опилок, к собакам, что без конца крутились под ногами, задиристо и беспричинно лаяли, к пьяному Серафиму, вечно просыпавшему в овес махру, к ветеринару Зайцеву, его ласковым, но коварным рукам, что вечно лезли куда не следует, и опять же к людям, тем самым, для кого существовала школа верховой езды. Впрочем, к своим собратьям тоже приходилось привыкать. Их было десять разнопородных четырехлеток, остальные лошади были старше, держались норовисто и молодым спуску не давали. Какое-то время он еще ожидал перемен, был излишне рассеян и новое знакомство принимал как случайное, знакомство ненадолго. Очень удивлялся, заметив того же самого человека и во второй и в третий раз.