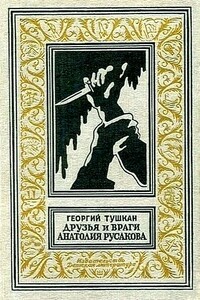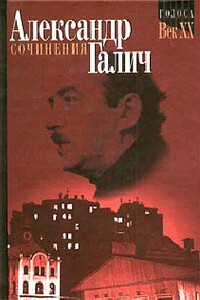НАЧАЛОСЬ ВСЕ ДЕЛО С ПЕСЕНКИ…
И вот она, эта книжка,
Не в будущем, в этом веке!
Снимает ее мальчишка
С полки в библиотеке!
А вы говорили — бредни!
А вот через тридцать лет…
Пылится в моей передней
Взрослый велосипед.
(«Песня про велосипед»)
Те, кто выбраны, те и судьи?!
Я не выбран. Но я судья!
(«Вот пришли и ко мне седины…»)
Разговор о поэте естественно начинать с вопроса — «откуда он?» Вот как сам А. А. Галич говорит о своих корнях:
«Для меня всегда была, так сказать, троица в русской поэзии, если говорить о современной русской поэзии, то есть поэзии уже нашего времени, уже послеоктябрьской поэзии. Это Мандельштам, Анна Андреевна Ахматова и Пастернак. И ближе всего для меня, пожалуй, Пастернак, хотя я люблю его меньше остальных, меньше Ахматовой и Мандельштама. Но он мне ближе потому, что первым пробивался где-то к уличной, к бытовой, интонации… Именно то, что мне в поэзии наиболее интересно. Его поэзия для меня всегда, знаете, крик о помощи, и я не понимаю, когда начинают кричать какими-то непонятными звуками, и никто на помощь не придет, если ты будешь непонятен. Поэтому эти поиски Пастернаком бытовой интонации, когда в поэзии упоминается уличный язык, бытовой язык, для меня чрезвычайно важны, и я, в общем, считаю себя его учеником, хотя, повторяю, Ахматову и Мандельштама люблю как поэтов не то чтобы больше — тут нет этих степеней — они для меня совершенны, а Пастернак весь в движении. Мне никогда не хочется сделать лучше стихотворение Анны Андреевны или Мандельштама, а у Пастернака много раз хочется что-то переделать». [1]
Ну, а если не только о XX веке говорить? И бегло проглядев век — уже позапрошлый! — мы натолкнемся на трех любимых поэтов Галича: это Н. А. Некрасов, Василий Курочкин (точнее — переведенный им П. Ж. Беранже) и А. К. Толстой.
С «музой мести и печали» Галича прежде всего роднит сочувствие к человеку, из сочувствия же неминуемо вытекает «гнев праведный» против людей и обстоятельств, давящих и унижающих этого человека. Отсюда весь социальный пафос поэта. Ко многим его произведениям можно было бы поставить эпиграфом блоковские строки:
Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева есть мятеж.
А еще та «уличная, бытовая интонация», о которой говорит Галич, которая тоже идет не столько от Пастернака, сколько от Некрасова.
Если взглянуть на самый строй галичевских стихов, то почти все они окажутся очень напряженными по фабуле и невероятно краткими театральными пьесами. Но о «театре Галича» уже писал А. Синявский, писал Е. Эткинд[2]. Надо только отметить, что стихотворные, часто остросюжетные, новеллы Некрасова, имеющие больше общего с прозой, чем с драмой, — все же прямые предки галичевских.
С другой стороны, сама песенная форма этой драматургии, стремительное развитие сюжета напоминают первого из поэтов, писавших такие вот новеллы-сценки, Пьера Жана Беранже (замечательно — хотя и с несколько избыточной русификацией — переложенного Василием Курочкиным).
Есть нечто общее у Галича и с первым абсурдистом в русской поэзии — Козьмой Прутковым. Но Галичу близок не столько абсурд Пруткова, сколько накаленный, жестко структурированный, точный в деталях балладный стих Толстого. И вот он соединяет в себе несоединимое: Н. А. Некрасов и А. К. Толстой — литературные противники — но Галичу понадобились они оба.
Галич, имя которого в послевоенные годы уже мелькало и в театральных афишах, и в титрах кино, стал знаменит в начале шестидесятых, когда магнитофоны разнесли по стране его песни. После того, как словно бы ниоткуда, на «пустом» месте возник Булат Окуджава[3], появилось еще несколько представителей этого синтетического (можно сказать, и «синкретического») вида искусства. Поначалу их насмешливо прозвали «бардами». Позже насмешка из термина выветрилась.
Первой напала на них, испросив благословения властей, свора официальных «песенников» — композиторов и «текстовиков». Последние особенно злились: ведь «барды» не скрывали, что их «тексты» подозрительно похожи на стихи. А это задевало текстовиков, привыкших к тому, что им позволено писать километры зарифмованных строк, к стихам не имеющих никакого отношения! Провозглашалась даже почти официальная «доктрина», что песня, коли она песня, а не стихотворение, должна быть как можно проще. И вдруг, с легкой руки Окуджавы, стало ясно, что музыка-то в действительности отнюдь не требует, чтобы «слова» непременно были третьесортными стишатами.
«Тексты» некоторых бардов были стихами куда в большей степени, чем продукция не только поэтов-песенников, но и многих профессиональных стихотворцев, песен не писавших. Композиторы же издавна привыкли к тому, что в тандеме они важнее текстовиков. А у «этих» ведь явно доминируют стихи! Так что и композиторов барды тоже обидели.
Наверное, первым после Вертинского поставил музыку в подчинение стиху Булат Окуджава. А когда появился поэт Александр Галич и поэзия стала лишь «прикрываться аккомпанементом», официальные «поэты-песенники» заговорили о «нечестной игре», поняв, что гитара и магнитофон посерьезнее их жалких тиражей, даже «тройных массовых». («Есть магнитофон системы Яуза / вот и все, и этого достаточно»). А главное — те, кто на магнитофонах, — ведь они не зависят от издательств, редакций и прочих видов партийного контроля, так надежно защищавшего проверенных авторов от вторжения «чужих» в советскую литературу!