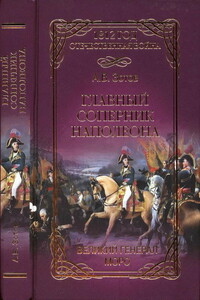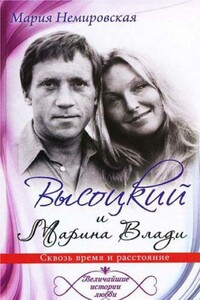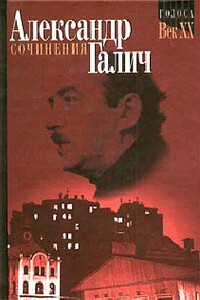…Земля была пустыней — выжженной, вытоптанной, залитой кровью. Жаркий ветер, сметая пепел и прах, посвистывал в черных развалинах. И мимо этих развалин, что еще недавно хвастливо и гордо называли себя «столицей мира» — городом Карфагеном, — бесстрастно шагали римские легионеры и мерными движениями, как сеятели, разбрасывали соль.
Пусть во веки веков на этой земле, опозоренной грехом и гордыней, не вырастет, не пробьется к свету ни одна былинка.
Горе тебе, Карфаген!
…В ту мокрую снежную зиму, когда произошли события, о которых я собираюсь здесь рассказать, в Москве, возможно, были перебои с песком (в Москве всегда с чем-нибудь перебои), а возможно и по какой-нибудь другой причине — но уже не римские легионеры, а самые обыкновенные московские дворники посыпáли прохожую часть улицы крупной серой солью, оставляющей на обуви несмываемые противные белесые разводы.
— Горе тебе, Карфаген! — негромко сказал я жене, когда мы вылезали из такси и через улицу, заваленную сугробами, перешли на другую сторону, к подъезду Дворца культуры комбината «Правда».
Здесь, в это утро, очередная Студия Художественного театра — впоследствии она будет называться Театр-Студия «Современник» — показывала генеральную репетицию моей пьесы «Матросская тишина».
Впрочем, и студийцам, и мне — автору, и многим другим заинтересованным лицам было известно, что пьеса уже запрещена, но, при этом, запрещена как-то странно.
Официально она запрещена не была, у нее — у пьесы — даже оставался так называемый разрешительный номер Главлита, что означало право любого театра пьесу эту ставить, — но уже зазвенели в чиновных кабинетах телефонные звоночки, уже зарокотали — минуя пишущие машинки секретарш — приглушенные начальственные голоса, уже некое весьма ответственное и таинственное лицо — таинственное настолько, что не имело ни имени, ни фамилии, — вызвало к себе директора Ленинградского театра имени Ленинского Комсомола и приказало прекратить репетиции «Матросской тишины».
— Но, позвольте, — растерялся директор, — спектакль уже на выходе, что же я скажу актерам?!
Таинственное лицо пренебрежительно усмехнулось:
— Что хотите, то и скажите! Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы!..
Нечто подобное происходило и в других городах, где репетировалась «Матросская тишина». И нигде никто ничего не говорил прямо — а, так сказать, не советовали, не рекомендовали, предлагали одуматься!
И вот — перестали сколачивать декорации, прекратили шить костюмы, помрежи отобрали у актеров тетрадочки с ролями, режиссеры-постановщики спрятали экземпляры пьесы в ящики письменных столов.
Когда-нибудь, на досуге, они перечитают пьесу, вздохнут и помечтают о том, какой спектакль они бы поставили, если бы…
И только маленькая Студия — еще не театр, не организация с бланками и печатью — упорно продолжала на что-то надеяться.
То ли на высокое покровительство Московского Художественного театра, то ли на малопонятную упрямую поддержку пьесы парторгом ЦК при МХАТе, неким Сапетовым, поддержку, за которую он впоследствии схлопочет «строгача» — строгий выговор с предупреждением за потерю бдительности и политическую близорукость.
Но, быть может, самой главной основой надежды, основой основ, было то, что никто из нас — ни я, ни студийцы — не могли понять, за что, по каким причинам наложен запрет на эту почти наивно-патриотическую пьесу. В ней никто не разоблачался, не бичевались никакие пороки, совсем напротив: она прославляла — правда, не партию и правительство, а народ, победивший фашизм и сумевший осознать себя как единое целое.
Я начал писать эту пьесу весною Сорок Пятого года.
Это была воистину удивительная весна! Приближался день победы, незнакомые люди на улицах улыбались, обнимали и поздравляли друг друга, я был смертельно и счастливо влюблен в свою будущую жену, покончил навсегда с опостылевшим мне актерством и решил заняться драматургией.
Казалось, что вот теперь-то и вправду начнется та новая, безмятежная и прекрасная жизнь, о которой все мы столько лет мечтали; казалось — а может быть так оно и было на самом деле — в первый раз, в самый первый и единственный раз, которому уже никогда больше не суждено было повториться ни в нашей судьбе, ни в судьбе страны, в те дни везде и повсюду возникло в людях радостное чувство общности, единства, причастности к великим событиям и самому дыханию истории.
И мы не знали — не хотели знать, а потому и не знали, — что уже тащатся, отстаиваясь днями на запасных путях, тащатся в Воркуту, в Магадан, в Тайшет арестантские эшелоны, битком набитые теми самыми героями войны, о которых мы — вольные — распевали такие прекрасные и задушевные песни; что распухают в восстановленных архивах НКВД папки с делами бывших и будущих зэков; что совсем скоро выйдут постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и вываляют в грязи, ошельмуют великих русских писателей Ахматову и Зощенко; что бездарнейший Жданов, причастный к культуре только тем, что умел, с грехом пополам, играть на рояле «Сентиментальный вальс» Чайковского, будет, с высокомерием невежды, обучать Прокофьева и Шостаковича правилам, сути и смысла музыки.