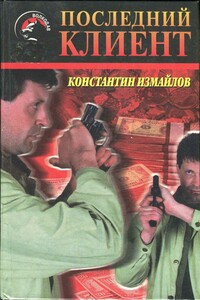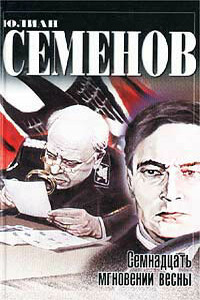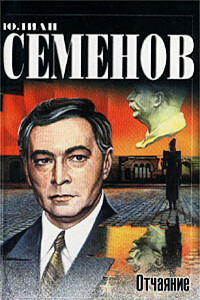Писать о корриде невозможно после Старика, лучше попробовать написать о нем самом в Памплоне: в этом мне помогли скульптор Сангино и талантливый журналист Хосе Луис Кастильо Пуче.
Я составил распорядок дня, по которому Старик там жил: до <энсьерро> — рюмка <перно>, потом улица Эстафета и маленький балкончик, один из сотен забитых людьми с шести утра: лица сонные, смешные, усталые, счастливые, особенно у памплонцев, которые будут помнить этот праздник и жить им весь год — все эти нудные <первые января, вторые февраля, третьи марта, четвертые апреля, пятые мая, шестые июня — о-о-о-о-о-ле! — седьмое июля Сан-Фермин!>, самый главный день года. Из окон маленьких ресторанчиков поднимается наверх, по узкому коридору старинной улицы, терпкий запах жареной капусты, вареных креветок, перегорелого оливкового масла — повара готовятся загодя встретить гостей после <энсьерро>, когда тысячи ввалятся в ресторанчики и станут много есть, а еще больше пить, но даже то, что эти обыденные запахи кухни поднимаются наверх, и дышать трудно, и нет наваррского воздуха, который спускается с гор, храня в себе запахи близкого Бискайского залива, даже это не мешает ощущению постоянного праздника, который навсегда останется в тебе.
Старик наблюдал за тем, как бежали по улице <афисионадо>, истинные патриоты Сан-Фермина, люди, умеющие перебороть страх, и еще раз анализировал быков: первый раз их можно наблюдать во время вечернего перегона из коралля, куда <торос> привозят на машинах с полей в тот загон, где они будут спать, ожидая <энсьерро>, но вечерняя пробежка отличается от утренней тем, что уже темно и нет солнца, а истинная коррида невозможна без солнца. Воображение Сервантеса, Унамуно, Барохи и Бласко Ибаньеса это воображение, взращенное солнцем, оно билось в них, а когда их лишали солнца, как это сделали с Сервантесом, а позже с Унамуно, оно продолжало биться в их памяти, реализуясь в книги — нет, какое там в книги! — в новые жизни, судьбы, в новые миры, прекрасные миры, где все говорят и думают по-испански, а это значит, открыто, мужественно и добро, ибо таков уж этот народ, право слово…
Когда <энсьерро> кончалось и Эстафета снова делалась улицей, а не загоном для быков, заставленным деревянными щитами, предохранявшими окна и витрины от рогов и локтей, Старик шел на Пласа дель Кастильо, и садился на открытой веранде бара <Чокко>, и просил официанта принести ему кофе с молоком и свежих, теплых еще, только что испеченных <чуррос> — длинных мягких пряников. Он завтракал как истый испанец, макая теплые масленые <чуррос> в стакан <кафэ кон лече>, и комментировал <эксьерро>, словно истинный знаток корриды, быков, людей, и подписывал протянутые ему сотнями рук открытки и книги, и каждую букву выводил тщательно, отдельно одну от другой, и почерк его был очень похож на почерк Горького, я много раз рассматривал его дарственную надпись на книге <Зеленые холмы Африки>, которую мне привез Генрих Боровик. (Старик тогда спросил Серго Микояна и Генриха: <А почему Юлиан? Это слишком официально, словно на банкете у американского посла. Как вы называете его?> Ребята ответили: <Мы называем его Юлик>. И Старик вывел своим каллиграфическим почерком, чуть заваленным влево: <Юлику Семенову, лучшие пожелания счастья — всегда — от его друга Эрнеста Хемингуэя>.) Он подписывал открытки, книги, платки очень заботливо и внимательно и фамилию свою выводил по буквочкам, а не ставил какую-нибудь закорючку, как это делают молодые гении, алчущие паблисити, он был уважителен к людям, потому что наивно верил в то, что все они читали его книги. Но когда толпа становилась угрожающе огромной, он говорил:
— Все. На сейчас хватит. Остальные я подпишу попозже или завтра, — и добавлял: — В это же время.
И уходил на Пласа де Торос, чтобы снова смотреть быков и говорить с <ганадерос> о том, какой бык особенно силен, что надо ждать от него, каковы рога — не слишком ли коротки, и как сильны мышцы ног, и хорошо ли зрение <торо>. Он обсуждал все это не спеша, и <ганадерос> отвечали ему, обдумывая каждое слово, ибо они знали, что этот <инглез> не похож на других, он знает толк в корриде и быках, и это он написал что-то про фиесту, а потом про гражданскую войну, не так, как о ней писали в Испании, но все равно ему дали Нобелевскую премию, и потом, он говорит по-испански как настоящий <мадриленьо> и такие сочные словечки вставляет, какие знает только тот, кто рожден под здешним небом.
Тут, на Пласа де Торос, возле загона, где быки жаждали боя, он проводил каждый день два часа — как истинный писатель, он был человеком режима, даже если пил свое любимое розовое <Лас Кампанас>, лучшее вино Наварры. И будучи человеком режима (пятьсот слов в день — хоть умри), в час дня, когда полуденное солнце делалось злым и маленьким, а на улицах снова начинали грохотать барабаны, завывать пронзительные, но мелодичные дудки (и такая разность возможна в Памплоне) и площади заполнялись группами <пеньяс и компарсас> — молодыми ребятами и девушками, которые поют и танцуют, увлекая за собой весь город, превращая при этом дырявое ведро в великолепный барабан, а старые медные кастрюли — в мелодичные <тарелки>, звук которых долог и звенящ, — Старик отправлялся к своему другу Марсельяно, который кормил его тридцать лет назад, или же заходил на базар и придирчиво выбирал лучший крестьянский сыр <кампесино>, и <тьерно> — сочную кровавую свиную колбасу, и немного <морсия>, и очень много <пан> — теплого еще хлеба; брал все это в машину и просил своего шофера Адамо отвезти его за город — на озеро, к Ирати, и там на берегу устраивал пиршество, наслаждаясь каждым глотком <Лас Кампанас> и соленым вкусом <кампесино>, который отдает запахом овина, крестьянки, детства, Испании, и каждым куском сочной <тьерно>, и подолгу порой рассматривал лицо шофера Адамо, который был итальянцем и во время войны был на стороне тех, кто воевал против Старика.