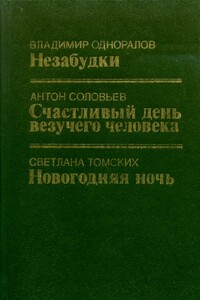Отболели деревья желтыми листьями.
С севера, из-за хаты, лениво плывут-наплывают свинцово-седые, тягостные, как печаль, тучи. Они, кажется, вездесущи. Скоро сыпанут снегом, и тогда густо поросший сорняками чернозем надолго уснет белым-пребелым сном. Из его недр постепенно будет выветриваться полыхание пожарищ, оглушительные взрывы бомб и снарядов, мучительно-раздирающий стон раненых — все военное лихолетье, что огненным смерчем пронеслось над украинскими степями.
Лида вышла во двор, где свирепствовал осенний ветер. Он нахально рванул за полы короткое, еще школьное пальтишко, будто силился раздеть.
— Шальной! — поспешно застегнулась.
Она стояла на узкой площадке между новой хатой и недостроенным сараем. Замечталась, загляделась в дальнюю даль, ушла мыслями в ту безвестность, где, наверное, сейчас находится Левко. Не дождалась, вышла замуж… Живой ли, мертвый, но из памяти не выходит… Да, он там, в той ненавистной Германии. Если вернется, хоть сквозь землю провалиться от стыда…
Морозный ветер пронизывал всю насквозь, но не замечала этого. Нет, она не хотела прятаться под надежное укрытие веранды, которая будто кичилась свежей голубой краской, улыбалась глазами-окнами.
Тяжкое предчувствие угнетало Лиду.
Вокруг призрачные пепелища от бывших строений, хаты-развалюхи, горбятся землянки… А у Гришки-беспалька — так ее мужа величает вся Крутояровка — горница-светелка. Односельчане удивляются: как он умудрился так быстро соорудить хоромы, где взял уйму денег? Один всевышний знал да она, Лида…
Белье, которое развесила сушить еще на рассвете, крепко заледенело, покрылось изморозью. Простыни из грубого домотканого полотна, похожие на огромных белокрылых птиц, зазывающих зиму, громко хлопали.
Неторопливо снимала с веревки зажатые тугими прищепками распашонки, простынки Оли. Они пахли морозной свежестью и неизъяснимо приятным детским духом. Попала под руку сорочка Григория, темная от пота. Мимоходом скомкала ее, чтобы глаза не мозолила.
Внесла белье в полутемный чулан: крохотное подслеповатое оконце никто никогда не мыл, не протирал, разве что ливень сполоснет да солнце высушит. Сквозь тусклое стекло Лида вдруг увидела своего мужа. «С какой это стати он так рано вернулся с работы?» Присмотрелась: Григорий почему-то злился… То и дело в коряжистый пень изо всех сил вгонял свой всегда острый топор… Даже у плотников не было такого исправного инструмента.
«Не к добру бесится… Набивает оскомину…» — подумала она, расправляя на натянутой бечевке хрустящее белье: пусть подсыхает.
Григорий непроизвольно поворачивался яростно-злым лицом к окошку. Посверкивало лезвие топора и моментально вонзалось, впивалось почти по самый обух в сухожилия древесины. Снял телогрейку-безрукавку, в плохонькой рубахе на лютом ветрище еще больше сатанел, разгоряченный…
Лидой овладело чисто женское любопытство. Внимательно наблюдала за мужем. Он у нее с характером крутым. Если что-то замышлял — пусть хоть и с неба камни падают, — задуманное должно осуществиться. Жгуре дала природа ум цепкий: за минуту найдет семь выходов из сложнейшего положения, отыщет десять щелочек и ускользнет, замаскируется. Затем пронюхает самую безопасную тропинку и шмыгнет, как мышь в нору, от житейской напасти.
В первую ночь после свадьбы он, разнеженно-счастливый, шептал в постели Лиде: «Если бы мне высшее образование, был бы не иначе министром, а то и повыше бери… Семь классов у меня, да, как говорится, восьмой коридор, и то не раз хватал бога за бороду… Во время войны, правда не на фронте, попадал в такие переделки — самому не верится, что выжил… Унаследовал отцовский трезвый ум, и он всегда выручал… Гнил бы сейчас в земле… Называли бы и меня, как теперь всех погибших на войне, героем, а что мне с того… Слава богу, миновал то пекло, не нюхал пороха…»
Она, Лида, совершенно случайно узнала, как он открутился от фронта: по пьянке разболтал… До невероятности глупейшая быль… Позже раскаивался, что открылся, даже плакал, но слово не воробей: выпорхнуло — и не поймать, не вернуть…
Его ровесники добровольцами ушли на фронт, а он навязался гнать отару овец за Волгу, в тыл, чтобы не досталось добро гитлеровцам. Вдали от снарядов и пуль, но вроде бы и не в стороне от общественного дела.
Спустя некоторое время дед-начальник в дороге захирел, ослабел совсем, как захудалый конь. И стал Жгура «старшим над баранами».
С наступлением непроглядной темноты тайком, дабы «завистливые людишки не сглазили», продавал овец направо и налево. Денег нагреб много. Одной молодухе за сладкую как мед ночку подарил породистую овцематку.
Пил запоем. Но все-таки здравый рассудок взял верх над легкомыслием, развлечениями. Жгура твердо решил: надо любой ценой раздобыть документ… Ведь, чего доброго, после войны могут спросить, куда девал отару. Отыскал по пути войсковую часть, сдал на мясо остаток овец, которых не успел разбазарить, выклянчил бумажку с печатью и облегченно вздохнул: «Пропади все пропадом!»