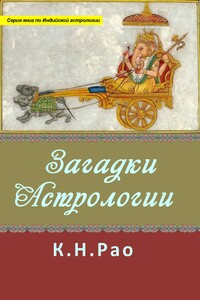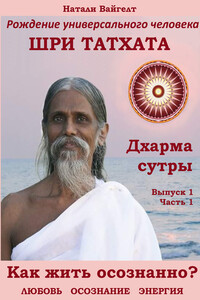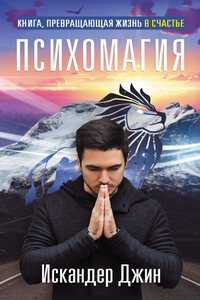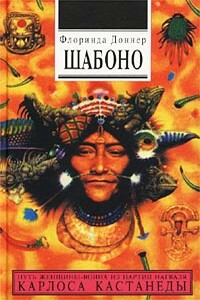Труд Флоринды Доннер имеет для меня особое значение. Он, фактически, находится в согласии с моей собственной работой, но в то же время несколько отходит от неё. Флоринда Доннер — мой соратник. Мы оба вовлечены в одно и то же занятие; мы оба принадлежим миру дона Хуана Матуса. Отличие происходит из-за того, что она женщина. В мире дона Хуана мужчины и женщины идут в одном направлении, одним и тем же путём воина, но по противоположным краям дороги. Поэтому взгляды на одни и те же явления получены с этих двух позиций и разнятся в деталях, но не в целом.
Такая близость к Флоринде Доннер при любых других обстоятельствах могла бы неизбежно породить скорее чувство верности, чем безжалостной проверки. Но по предпосылкам пути воина, которому мы оба следуем, верность выражается только в требовании чего-то лучшего для себя. Для нас лучшее означает полную проверку всего того, что мы делаем.
Следуя учению дона Хуана, я предпринял безжалостную проверку работы Флоринды Доннер. И нашёл, что для меня здесь имеется три различных уровня, три чёткие сферы её оценки.
Во-первых — это богатые подробности её описания и повествования.
По-моему, эти детали этнографичны. Мелочи повседневной жизни, заурядные для культурного окружения описанных персонажей, представляют собой нечто совершенно нам неизвестное.
Во-вторых — всё сделано очень изящно. Я рискну сказать, что этнограф должен быть ещё и писателем. Для того, чтобы ввести нас в этнографическое описание мира, этнограф должен быть более чем учёным-обществоведом, он должен быть художником.
Третьим является честность, простота и прямолинейность работы. И здесь я, без сомнения, очень требователен. Флоринда Доннер и я сформированы одними и теми же силами; поэтому её труд подчинён общей модели устремления к совершенству. Дон Хуан учил, что наш труд должен быть полным отражением нашей жизни.
Я не в силах выразить чувство восхищения и уважения воина к Флоринде Доннер, той, кто в одиночестве, имея мизерный шанс, сохранила своё душевное равновесие и осталась верным последователем пути воина и учения дона Хуана.
Карлос Кастанеда.
В предиспанские времена штат Миранда на северо-востоке Венесуэлы был населён индейскими племенами карибов и кинарикотов. В колониальную эпоху здесь появились две другие расовые и культурные группы: испанские колонизаторы и африканские рабы, которых испанцы принуждали работать на своих плантациях и рудниках.
Потомки индейцев, испанцев и африканцев образовали смешанное население, которое в настоящее время населяет мелкие деревушки, селения и города, разбросанные в прибрежной и материковой зоне.
Некоторые города штата Миранда известны своими травниками и знахарями, многие из которых были спиритами, медиумами и магами.
В середине семидесятых годов я приехала в Миранду. Будучи в то время студентом-антропологом и интересуясь знахарством, я работала с женщиной-знахаркой. Учитывая её просьбу остаться неизвестной, я назову её Мерседес Перальтой, а её город — Курминой.
С разрешения знахарки, так чётко и точно, как только могла, я записывала в свой полевой блокнот всё, что касалось моих отношений с ней, начиная с момента моего прихода в её дом. Мною записаны несколько историй, рассказанных некоторыми из её пациентов. Поэтому настоящая работа состоит из частей моего полевого блокнота и рассказов этих пациентов, причём материал подбирала лично Мерседес Перальта. Части, взятые из дневника, написаны от первого лица. Рассказы пациентов приведены в третьем лице.
Единственной вольностью в обращении с материалом является изменение имён и личных дат персонажей рассказов.
Всё началось для меня с трансцендентального события; события, которое определило ход моей жизни. Я встретилась с нагвалем. Он был индейцем из Северной Мексики.
Словарь испанской королевской академии определяет термин «нагваль», как испанскую адаптацию слова «нахуталь», которое означает колдуна или мага на языке аборигенов Южной Мексики.
До сих пор в современной Мексике существуют традиционные истории о нагвале, человеке древних времён, обладающие необычайными силами, способном выполнять действия, которые не поддаются воображению. Однако, в настоящее время и в городе, и на селе, нагваль считается чистой легендой.
Впечатление такое, что они живут в народных сказаниях, в мире фантазии и слухов.
Тем не менее, нагваль, которого я встретила, был реальным. В нём не было ничего иллюзорного. Когда я спросила его о хорошо известной уникальности, которая делала его нагвалем, он предъявил по видимости простую, и всё же совершенно сложную идею, в стиле объяснения того, что он делал, и того, кем он был. Он рассказал мне, что нагвальство начинается с двух несомненных фактов: факта того, что люди являются необычными существами, живущими в необычайном мире; и факта того, что ни при каких обстоятельствах ни человек, ни мир не могут считаться доказанными и определёнными.
Он сказал, что из этих простых предпосылок вырастает простой вывод: нагвальство срывает одну маску и немедленно надевает другую. Нагвали срывают маску, которая позволяет нам видеть себя и мир, в котором мы живём, как нечто обычное, неприхотливое, предсказуемое и повторяющееся; они надевают вторую маску, ту, которая поможет нам увидеть себя — и наше окружение — как потрясающие события, которые расцветают только на краткий миг и никогда не будут повторены вновь.