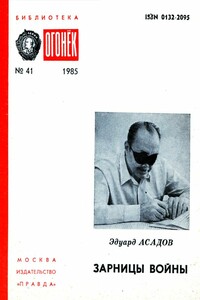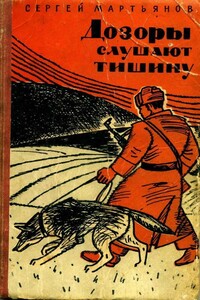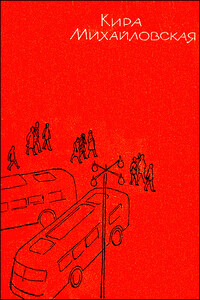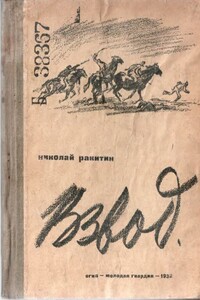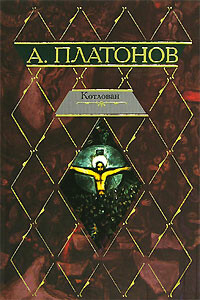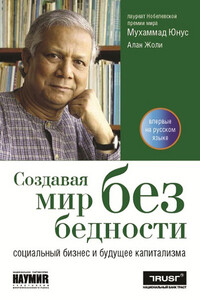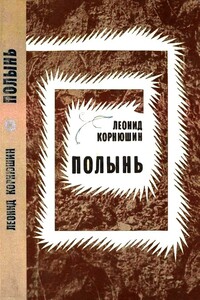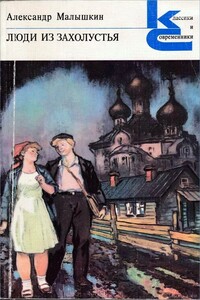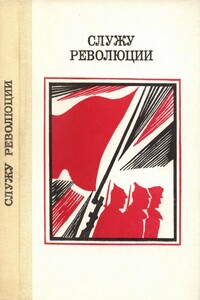Все-таки еще оставалось что-то…
А ведь как будто канули навсегда все одиннадцать фронтов, протопавших через город сапогами красных, белых, маруськинцев, махновцев; уже иные налаживались годы — усмиренные, стихающие, как откатная волна.
И уже в открытую, спокойно выходили из нижнего этажа, от Шмуклеров, каждое утро с корзиною на Проспект, в «собственный» магазин, с той же зеркальной выставочной в цветных лампионах. Правда, весь магазин — караты, золотники, пробы — укладывался пока в одной корзине и на ночь — обратно домой, тиском на дно старых кованых сундуков; на сундуках, покряхтывая, улягутся на ночь сами супруги Шмуклер. И мясник из надворного приземистого флигеля встал за прежний, тот же третий от края прилавок в сумрачных, задавленных кровавыми мясами катакомбах; к ночи во флигеле, как когда-то давно, высыпалась дневная добыча на стол — рыхлыми ворохами кредиток, досыта перемусливалась обмороженными за день, изалкавшимися пальцами, перевязывалась в тугие, сладко стучащие пачки и опасливо пряталась под изголовье. И во втором этаже, у Пучковских, давно сняли упрятанную мебель с чердаков, в зале на прежнем месте пианино, по навощенному паркету — ковры, комнаты нарядились пестротой резных полочек, сервизных горок, этюдиков, кружевных гардин — будто здесь и не топали никогда грязные красноармейские боты, будто опять, как давно в Варшаве — вечерние приемы, окна на Маршалковскую — в веселую толпу, в лепет и сверканья улыбающихся экипажей.
На плечах у Веры Адамовны каракулевый сак, извлеченный после стольких лет из тайных нафталинных хранилищ. Вера Адамовна, постаревшая только около глаз и не утратившая былой красивости, так же статно и с достоинством сплывала по парадному на базар, с изящным чемоданчиком в руках. В чемоданчике — вазочки, кувертики, ложечки: жалованья мужа и старшей Софочки все равно не хватало. Но мимо этих «нуворишей», Шмуклеров, мясников, тех, с третьего этажа — заведующих губкопом, или как там? — по-прежнему Вера Адамовна проходила с прежней манерой своей, не замечая, брезгливо опустив глаза: как будто и теперь что-нибудь значило, что в прошлом муж, Андрей Капитонович — действительный статский, ордена, влиятельные знакомства и что в Варшаве когда-то так незабываемо, так блистательно прошумела младость…
Над Днепром залечен взорванный гайдамаками чугунный пролет, опять задышали, загудели поезда. На пустырях, помнящих рычание шестидюймовых из-за Днепра, заелозили каменщики и плотники из губкоммунхоза. Побежал трамвай мимо кафе-баров, аукционов, конфексионов, зеркальных берегов улиц, оживших беспечно плещущей толпой. Разве не все, как тогда?
Вместе с магазинами и трамваями пришел великий голод. Из зачумленных где-то за степями деревень доползал и до города, в нищенские слободы, в низы. Голодные валялись в смрадных отрепьях по панелям, по шелудивой мостовой базаров, раззевали земляные рты, дышали воем…
Особенно беспокойно было от пустырей, от пепелищ, от выкорчеванных ям на бульварах, хранивших еще дикое дыхание тех лет. Даже из центра многолюдного города, с гроба щеголеватых, европейских когда-то улиц сквозил всюду дымный нелюдимый Днепр, голые степи. Будто неотступные чьи-то глаза выскакивали, обнажали самые сокровенные недра магазинов и квартир.
У голодных были такие глаза. Их выгоняли с парадных, боялись.
И только ночью — вместе с сонным светом ламп — могли отдохнуть комнаты и спокойно раскинуть свои тихие замкнутые царства. Из окон, наглухо заложенных ставнями, уходили степи; уюты были укрыты за прочными каменнейшими стенами.
…И ночь, комнаты, степи плоско лежали, жили на яркой карте оперативного штаба по борьбе с бандитизмом. Степи огромны, желты. На картах через Днепр, через петлистые разбеги дорог вьется ядовитая алая стрела — путь той самой банды Цивюка, Гринько или кого там. Ветер свищет вперекидку над пустыми осенними шляхами; конные в краснозвездых шлемах рыщут по пустым шляхам — нет, нет никого. Степь ползет тьмой в подмостные балки, в пригороды, базарные притоны, в пустыри. Над трубами сизая с Днепра муть, воет в трубы степь.
Ночью, в четыре, в лохматых сумерках коптилок просыпались — будила пронзительная тоска, вставшая вдруг из вещей. Что-то огромное придвигалось к ставням — слишком тонким, слишком хрупким, — шарило голодными глазами в упрятанном, ничего не чующем мирке, комнаты дрожали от застенных ветров. Где-то бахали выстрелы; опять налет. Люди в одном белье ползли к окнам, слушали — опять не было ни стен, ни крыш, ни безмятежных лет: степь, одна степь свистала кругом, крутилась, покрывала того, кто во тьме…
* * *
Дом почти в центре, но за флигелем двор открыт, забора нет, какие-то на версту огороды, детский приют, пустырь, глинистый скат в слободскую балку. Оттуда могли прийти…
В шесть запирали парадное на болт и на крючок. Наглухо закрывались ставни, во всех квартирах зажигались керосиновые лампы, начиналась возня и стукотня. У Шмуклеров и у мясника гвоздями заколачивались на ночь обитые изнутри железом двери и ставни, на третьем этаже возили по полу чугунные ящики и сундуки, громоздя их куда-то, у Пучковских в мерзлой кухне и в боковой нежилой комнате, у окон и дверей, настораживали особую западню из ведер, табуретов, щеток и самоварной трубы, с таким расчетом, чтобы все с грохотом рухнуло при малейшем толчке.