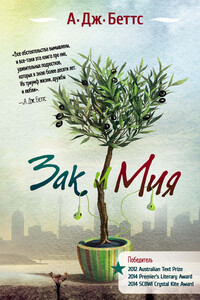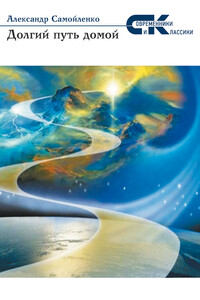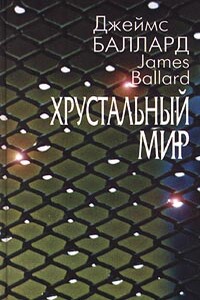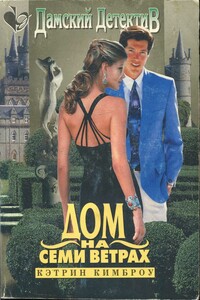Оттого что пляж целиком ушел под воду и волны подкатили под самый береговой утес, местность, знакомую мне по летнему времени, было не узнать. Я шла вдоль высокого берега, повернув лицо к морю, то по щиколотку, то по колено в неровно сметанных сугробах, обнажавших, при более радикальном порыве ветра, летние узоры земли. Море, стремительно выходя из тумана, налетало сначала на покосившиеся опоры береговой дамбы, ошалело вспенивалось и сбавляло ход, спотыкаясь о жалкие реликвии пляжа: о заледеневшие волейбольные сетки, с которых свисали водоросли — ветхими бородами из театрального реквизита, — и соленые сосульки, издававшие, если ветер касался их понежнее, замысловатые, долгие, ни на что не похожие звуки; о большие камышовые зонтики, круглыми шляпами торчавшие когда-то на длинных ногах, теперь опрокинутые под тяжестью снега и валяющиеся в самых нецеломудренных и карикатурных позах; о хлипкую архитектуру из стекла и пластмассы; о киоски прохладительных напитков; о жаровни для митителов; о кокетливые балюстрады; о срам цветных крыш, выставленный над водой на посмешище ветру. Надо всем этим, в тумане, в воздухе, в небе кружили наивные чайки, то взбудораженно галдя, то замолкая и усаживаясь отдохнуть, прикрыв один глаз, тараща другой, круглый и невозмутимый, словно вдруг отрешась от всего, чтобы разобраться наконец, кто же они по статусу: буревестники или куры? Я шла, повернув лицо к морю, и не могу сказать, что мне не нравился этот поруганный пейзаж, внушительный даже в позоре и бесчестье. И не могу сказать, что мне было плохо, когда я шла, подталкиваемая в спину вьюгой, к тому концу высокого берега, где проход преграждался проволочным забором. Дальше, за непроницаемой завесой кустов, начиналась запретная зона. По правде говоря, только тогда я и стала узнавать места. Здесь был стык. Как от удара, распахнулись настежь дверные створки, два облика побережья: зимний пейзаж, царственный несмотря ни на что, чужой, и многоцветный, ласковый, прокаленный солнцем пляж. Я повернула обратно — точно так же, как делала летом всякий раз, как лунную дорожку на море грубо рассекал забор, из каких-то странных соображений межующий не только песок, но и воду, уходя далеко в море, за буйки, — и, кажется, тогда-то, в самый миг поворота, в миг, когда я начала отступать по собственным следам, подставив лицо ударам ветра, я и спросила себя, что я здесь делаю. Впрочем, никаких следов уже не было — пропали, стерлись немилосердной вьюгой, и эта пропажа, хотя и объяснимая и ничуть не загадочная, почему-то показалась мне вызовом, как бы отменой в принципе моего присутствия здесь, логическим обеспечением вопроса, вдруг ставшего тревожным, без тени риторики: зачем я здесь? И, более того, как я сюда попала?
Моя память не доставала вглубь дальше только что рассказанного: море, захватившее пляж, вьюга, путь вдоль высокого берега, запретная зона. И вот теперь материальные следы этой куцей истории изгладились еще прежде, чем уйти из сознания. А раньше? Что было раньше? Где другие вехи в памяти, хотя бы столь же незначительные, неужели их следы тоже тщательно стерты, выровнены — как на снегу, так и во мне самой? Непременно что-то должно было быть раньше, какой-то повод, зацепка, случай, приведшие меня сюда, вынудившие прийти. Но вспомнить я не могла, в памяти отсчет шел со зрелища бурого моря, тумана над ним, клочьев грязной заледеневшей пены на берегу, со зрелища незнакомого моря, которое я признала только благодаря постоянству запрета, развернувшего меня лицом к враждебной вьюге, лицом к вопросу, задаваемому уже на высоких нотах: как я здесь оказалась?
Ветер, с силой секущий лицо, почти не давал дышать, зубчатые хлопья снега на полной скорости вонзали в меня свои малюсенькие острия, глаза, которые я не закрывала из боязни свалиться в пропасть, слезились, и обильным, мгновенно стынущим слезам мешал превратиться в ледяную корку только нездоровый жар щек; несколько раз я уже падала на колени, и подниматься меня заставляло только давнишнее, летних времен, воспоминание, что скоро высокий берег оборвется и, следуя береговой линии, начнется полоса крупных отелей, а оврагом, в летнее время сглаженным травой, я смогу уйти от моря, которое сумасшедшая вьюга собиралась, кажется, оторвать от дна. Мне удалось добраться до обрыва чуть ли не ползком — когда я упала в очередной раз, ветер больше не позволил мне встать, и пришлось пробиваться сквозь сугробы, как сквозь плотную воду, затрудняющую ход, но не дающую и утонуть. Кошмар набирал силу: мои отчаянные и неуклюжие телодвижения, налеты снеговых вихрей, приблизившие кружение чаек, со зловещим беспристрастием провожающих меня сверху, а самое жуткое — зычная перекличка моря и вьюги, вой воды и вой суши, схлестнувшихся в зверином, ликующем поединке. И то, что меня мучает кошмар, я, помятая и перепуганная, поняла как раз в ту минуту, когда он без всякого перехода обернулся тихим сном. Я съехала по склону, подбитому снегом, с одним желанием — поскорее уйти от истерики сквозных ветров и от грохота волн, молотящихся о береговую дамбу, и еще на полпути ко дну оврага разом стало тихо, будто я незаметно для себя пересекла черту, за которую не было доступа вьюге и морю. Снег пошел крупными, мягкими хлопьями, в тишине, которую еще больше подчеркивал отзвук морского шума, неправдоподобно далекого и мелодичного, и этот внезапный покой, не менее странный, чем прежние исступленные метания, вывел меня за кадр, в который я ненароком угодила и чье коварство и неверность испытала только что на себе. Я быстро поднялась и зашагала прочь, спеша уйти подальше от моря и как-то собрать в себе бессвязный ход событий. Почти бегом я одолела короткий подъем, за которым начиналась тополиная аллея и по обе ее стороны — летние особняки. Да, теперь я все узнавала, хотя все было по-другому, чем летом: укрытое, скругленное снегом, запертое, пустое. Бассейны деликатно выставляли из-под белого одеяла наготу голубых фаянсовых бортиков; солнечные часы застлали снегом циферблаты в тщетном ожидании теневой стрелки; ели, насаженные на участках для защиты от солнца, под бременем снега торжественно преклонили до земли знамена ветвей. Со спущенными жалюзи, с закрытыми дверьми, с террасами и крылечками, ушедшими под первозданные сугробы, дачи казались сейчас на удивление привлекательнее, чем летом. Смежив веки, подоткнувшись со всех сторон пуховыми одеялами, они спали, как живые, уютно свернувшись, может быть, они даже умерли во сне — но все равно остались