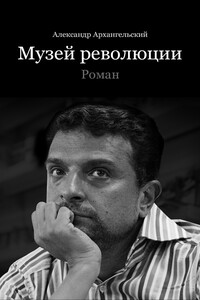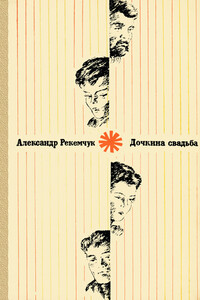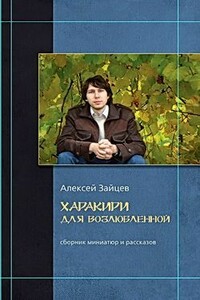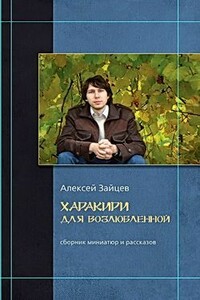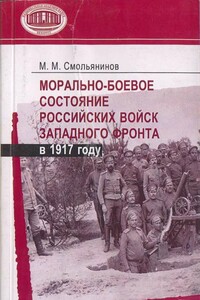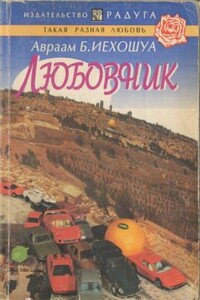Такого исхода своей миссии он никак не ожидал. И сейчас, когда ему перевели поразительную просьбу этой старухи в темном монашеском одеянии, что стояла у костра, догоравшего в сероватых сумерках зимнего рассвета, он ощутил непривычное волнение. Иерусалим, этот старый, измученный, с детства знакомый и привычный город, который он покинул всего неделю назад, вдруг снова показался ему каким-то необыкновенно значительным и важным, как, бывало, в давние годы.
И подумать только, ведь вся эта его миссия выросла из сущей мелочи, из ничтожного бюрократического недосмотра, да и недосмотр этот — после того, как редактор газеты вовремя предупредил хозяина пекарни, — вполне можно было еще загладить: послать, например, в газету более или менее убедительное разъяснение сути дела и приложить к нему, если уж на то пошло, краткое заверение в сочувствии. Но нет, Старик, человек упрямый и жесткий, так испугался вдруг за свою репутацию, что простое извинение, которое могло бы разом со всем покончить, показалось ему недостаточным, и он потребовал — именно потребовал, ото всех без исключения, как от себя, так и от своих подчиненных, — искупления греха. И вот этот его каприз в конце концов и привел человека, которого он когда-то назначил своим начальником отдела кадров (или, как он называл высокопарно, «ответственным за человеческие ресурсы»), в эти далекие, чужие, Богом забытые края. Видно, что-то в этой истории так разбередило престарелого владельца пекарни, что им овладел чуть ли не мистический страх. Он, наверно, и раньше недоумевал, чем объяснить, что ни одно из тех ужасных, кровавых событий, которые выпали в последнее время на долю всей страны, а Иерусалима в особенности, не только не уменьшило, но, наоборот, увеличило доходы его пекарни. И видимо, стал опасаться, что такое странное процветание на фоне повсеместных бед и несчастий непременно должно навлечь на пекарню дурную молву. А тут она и подоспела, эта молва, да к тому же еще запечатленная на той самой бумаге, которую он же, Старик, и поставлял этой газете! Правда, автор злосчастной статьи, вечный докторант каких-то там гуманитарных наук, довольно известный в Иерусалиме левый радикал и самозваный страж общественной нравственности, мерзкий человечек, уверенный в том, что близкое знакомство с источниками иерусалимских сплетен освобождает его от всяких моральных ограничений, и сам поначалу знать не знал, откуда родом та бумага, на которой будет набрана его пышущая праведным гневом инвектива. Но если бы и знал — разве он смягчил бы в ней хоть одно-единственное слово? Слава Богу, редактор, он же владелец этой местной газетенки, прочтя черновик статьи и придирчиво изучив фотокопию порванной и залитой кровью платежки, найденной в сумке погибшей женщины, разумно решил, что лучше заблаговременно сообщить обо всем хозяину пекарни, — может, тот сразу даст нужные разъяснения, выразит сожаление о случившемся, и тогда публикация статьи не станет неожиданным ударом для старого приятеля, и их давние отношения ничем не будут омрачены.
Ну, в самом деле, если вдуматься — так ли уж из ряда вон чудовищна была вся эта история? Да нет же, конечно… Просто в эти безумные последние недели, когда почти ежедневные взрывы арабских самоубийц в автобусах и на улицах города и мгновенная ужасная гибель десятков ни в чем не повинных людей, только что живых и вот уже превращенных в кровавые ошметки, когда всё это стало какой-то жуткой иерусалимской рутиной, угрызения совести у оставшихся в живых стали порой совершенно невыносимыми и овладевали ими в самые неожиданные и, казалось бы, неподходящие моменты. И не случайно в тот роковой вечер, на исходе рабочего дня, когда «ответственный за человеческие ресурсы», то бишь начальник отдела кадров пекарни, или, проще говоря, Кадровик, уже прикидывал в уме, как бы увильнуть от внезапного послеобеденного вызова к хозяину — ибо он еще с утра обещал бывшей жене освободиться сегодня пораньше и весь вечер посвятить их единственной дочери, — именно тогда их Начальница канцелярии, женщина с большим опытом и чутьем, хорошо знавшая своего босса, прозрачно намекнула ему, что на его месте не стала бы оттягивать назначенную хозяином встречу. И так как она уже догадывалась, с каким нетерпением ждет его Старик, то заодно присоветовала раздраженному Кадровику загодя подыскать, кто бы заменил его в исполнении отцовских обязанностей — и, пожалуй что, на всю предстоящую ночь.
Вообще-то, между Стариком и его «ответственным за человеческие ресурсы» царили отношения взаимной симпатии и доверия, которые установились еще в те давние времена, когда нынешний Кадровик, будучи тогда всего лишь рядовым торговым агентом, по собственной инициативе принялся искать в странах третьего мира новые перспективные рынки для организованного хозяином нового направления — продажи писчебумажных товаров. Так что не случайно, когда отношения в семье Кадровика стали мало-помалу разлаживаться и рваться — возможно, как раз по причине его долгих и частых разъездов по службе, — Старик, хоть и с нелегким сердцем, согласился освободить его от прежних обязанностей и перевел в начальники отдела кадров пекарни, чтобы он мог отныне проводить дома если не все дни, то, по крайней мере, все ночи подряд и попытался бы залатать неумолимо расползавшуюся ткань своей семейной жизни. Увы, произошло прямо противоположное — глухая обида, набрякшая в душе его жены за время прежних отлучек, теперь, когда он постоянно был рядом, перешла в откровенную и злую враждебность, и их отчуждение, поначалу только бытовое, потом душевное, а под конец и телесное, стало разрастаться уже по собственной логике. Однако Кадровик и после развода не попросился, хотя его и тянуло, на прежнюю должность, потому что надеялся, оставаясь постоянно в Иерусалиме, сохранить хотя бы расположение любимой дочери.