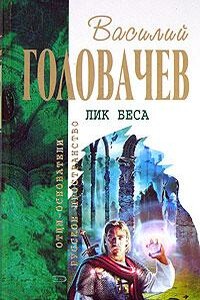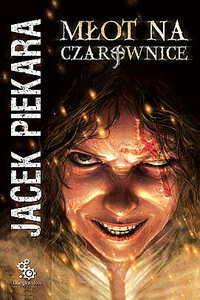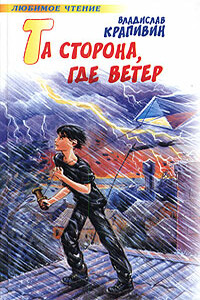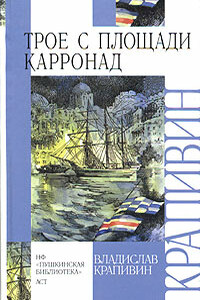Котам Максу и Тяпе,
а также тряпичному зайцу Митьке —
героям моих нескольких повестей
1
У Травяного Зайца голова была круглая и плоская, будто плюшевая подушечка для иголок. Размером с чайное блюдце. На ней светилась вышитая розовыми нитками улыбка, чернел квадратный пластмассовый нос и блестели зеленые глаза. В глазах временами искрилось лукавство, хотя вообще-то это были стеклянные пуговицы.
Тряпичное туловище зайца было в желтую и зеленую поперечные полоски. Не яркое, а словно с пыльным налетом. Длинные уши мягко болтались, лапы торчали в стороны. И вот еще что! На задних лапах была обувь: нечто вроде тапочек из черной клеенки. Я называл их «лёпы». Не знаю почему. Возможно, оттого, что похоже на «шлёпанцы».
Мне казалось, что такой заяц был у меня в давнем-давнем детстве. Мама говорила, что не было, что он приснился мне в младенческих снах, которые похожи на явь. Но я знал — он был. Просто мама почему-то не хотела признаться в этом. Впрочем, я не обижался на маму. Наши споры о зайце были вроде игры.
Но о Травяном Зайце это я так, к слову. Речь сейчас о других снах, не детских. Вернее, о том состоянии, когда начинаешь засыпать. О кратком таинственном времени между явью и сном.
В эти минуты или секунды иногда приоткрывается непостижимое. Возникают в сознании странные построения, переплетения неуловимых пространств, непонятные формулы, конструкции, которые состоят не из твердого материала, а из рассуждений, загадок и ощущений близкого открытия. Однако открытия не случается. Не хватает времени, чтобы постигнуть систему этих явившихся из иного мира головоломок. Порой удается ухватить нить. Но время убегает, нить лопается, и ты уходишь или в сон, или в пробуждение. Сон вообще стирает память о только что виденном. А при пробуждении пытаешься лихорадочно запомнить: что же было?
Да, было, но что?
Нет, не вспомнить. И остается только ощущение ласковости.
Да, в том странном пространстве, среди хрупких конструкций из неведомых в нашей жизни понятий нет ни малейшего намека на раздражение, сердитость, насмешку по поводу моего непонимания. Наоборот! Оно пытается помочь мне, подсказать. Оно не виновато, что у меня мало времени. В следующий раз оно будет стараться снова, с прежней ласковостью… Хотя, кажется, я выбрал неточное слово. «Ласковость» — это поверхностное чувство. Вроде как погладил по головке и отошел. А здесь все пространство состоит из терпеливой доброты и… ну, если не любви, то явной симпатии. Бескорыстной и неизменной. И это, по правде говоря, странно. Потому что кто я для него, для этого неизвестного мира?
Такое отношение к себе от посторонних я испытал лишь однажды. Очень давно.
Мне было лет семь-восемь. Кто-то подарил мне самокат — красный, блестящий, на белых дутых шинах. Сперва я гонял по дощатым тротуарам в своем квартале, но счастье распирало меня, и постепенно я уезжал все дальше — по плитам и асфальту ближних, а потом и не очень ближних улиц. И наконец увидел на углу кирпичного дома табличку «Ключевской спуск».
Улочка была незнакомая. Она мне понравилась. Тихая, малолюдная, со старинными одноэтажными магазинчиками, мастерскими и аптеками. Посредине тянулась в обрамлении травяных газонов булыжная мостовая, а у домов — узкие, но гладкие полосы асфальта. И главное, что они вели под уклон! Ура!
Я помчался, не ощутив сначала ни капли страха. А когда ощутил, оказалось, что тормозная планка под пяткой ослабела и не сдерживает скорости. Окна, вывески, трава, фонари летели по сторонам от меня, размазываясь в полосы. В одном месте тротуар образовывал плавную дугу. Для кого плавную, а для кого… Мама!.. Звон, сверканье и грохот. Это я на «всем скаку» пробил большущее сплошное стекло — оно было вровень с асфальтом. Следом влетела в помещение туча осколков. Я сел на желтых гладких половицах и, ничего еще не чувствуя, заревел, потому что надо мной склонились люди.
— Я больше не буду!
— Вы посмотрите на этого молодого человека! Он больше не будет! Это очень даже приятно слышать! Потому что такого случая вполне уже хватит на всю жизнь! Где у тебя болит?! — Это кричал низенький худой старик с загорелой лысиной, седыми клочками на висках и блестящими очками на кончике носа. — Отвечай сейчас же, что ты разбил, сломал и порезал?!
— Я нечаянно!.. У меня есть знакомый стекольщик дядя Митя, он вставит стекло!
— Вы послушайте эти речи, он говорит про стекло! Я спрашиваю про тебя! Скажи спасибо, что ты, кажется, живой и только немного поцарапанный!.. Эти пьяницы из жестяной артели опять украли решетку, что стояла перед окном, и вот мальчик чуть-чуть не стал инвалидом! Это надо же видеть, как у людей совсем пропала совесть!.. Сонечка, возьми в аптечке белый пузырек, вату и бинт…
Высокая старуха в старомодном зеленом платье, бормоча и сокрушенно мотая головой, тут же принесла все перечисленное. Старик ухватил меня под мышки, усадил в высокое кресло.
— Покажи руки, ноги и уши. Не бойся, щипать не будет, это тебе я говорю, Матвей Борисович Гольдштейн, а люди знают, что мастер Гольдштейн всю жизнь говорит только правду…
Он смазал чем-то шипучим и забинтовал мне колено (и правда не щипало), украсил узкой марлевой повязкой лоб, хотя царапина на нем была тонкая и неглубокая. Больше ран и порезов не обнаружилось. Самой большой потерей был, пожалуй, галстучек моей сатиновой матроски, который стекло срезало напрочь, словно бритвой. Но старуха Сонечка тут же, прямо на мне, аккуратно пришила галстучек синими, под цвет сатина нитками. Потом поставила к стене мой самокат и стала заметать осколки. Я уже совсем пришел в себя. Оглядывался и понимал, что оказался в фотомастерской. Потому что надо мной была прозрачная косая крыша из стеклянных квадратиков, на стене — декорация с острыми кавказскими горами и всадником в черкеске, у которого под кубанкой дыра вместо лица. По углам стояли на треногах желтые деревянные ящики с медными планками и закрытыми кожей объективами. Повсюду висели фотопортреты очень разных людей. Мне запомнился снимок худенькой девчонки с веснушками на треугольном лице. Серьезная такая и… будто даже знакомая. Но вспомнить я не успел — за разбитой витриной остановились два красноармейца. В обмотках, в серых скатках через плечо, с жестяными звездочками на пыльных пилотках. Над плечами — тонкие штыки с солнечными искорками на остриях.