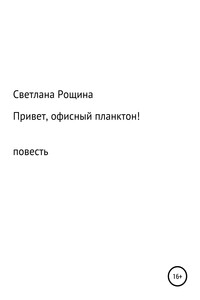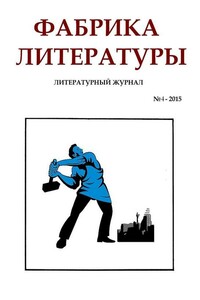Над Йоником было серое небо. Оно всегда казалось таким, даже в погожий день: сырым, рваным, точно обитым скомканной ватой. Под ним давно вымерло все живое, остались только люди и их безумные сновидения.
Да и остальное не радовало глаз. Узкие тротуары, мостовые, всегда идущие под уклон, чахлые скверы и здания уродливой архитектуры, приземистые и длинные, как поезда, или, наоборот, высокие и худые, точно церковные свечи.
Йоник лежал вдали от крупных мегаполисов, окруженный болотами и черными торфяными озерами. Этакий городок в табакерке, царство пружинок и молоточков, прихлопнутое сверху тяжелой латунной крышкой. И все, что в нем происходило, не выплескивалось наружу, а закисало и булькало внутри, точно недобродившее вино в запечатанном сосуде.
Большой мир решал свои маленькие проблемы, и мало кто слышал о загадочной эпидемии, охватившей Йоник и лишившей рассудка, а потом и жизни десятки, а то и сотни горожан.
Болезнь проявлялась странно. Люди начинали во сне выходить из тел… даже не так, из их спящих тел выходили разные животные. Иногда совсем маленькие — мышки, морские свинки, кролики или черепахи. Порой более крупные — кошки, волки, собаки. Волки даже чаще, видно, много в человеческой натуре хищного и дикого. А бывало, что и совсем крупные, вроде слонов.
Они слонялись по комнате, роняли предметы, бились о закрытые двери и окна, до смерти пугая случайно проснувшихся домочадцев больного. Если удавалось, выбирались из домов на улицы, под бледно — зеленый свет фонарей, лакали гнилую воду из водосточных канав, выли на медную луну, рылись в мусорных кучах, вынюхивая остатки еды, перепахивали лапами жалкие городские газоны. Не вели себя агрессивно и ни на кого не нападали, но случайные ночные прохожие шарахались от них, торопясь забиться в подъезды, квартиры, наглухо запертые комнаты. Никто больше не чувствовал себя в безопасности. Звери были из плоти и крови и почти неотличимы от настоящих, разве что по мягкому рубиновому свечению в глубине зрачков.
Сами больные, проснувшись утром, ничего не могли вспомнить. Иногда только обрывки запахов, привкус травы и скрипящего на зубах мокрого песка, да причудливый калейдоскоп размытых или, наоборот, неестественно четких и объемных картин. Странные, нечеловеческие ощущения.
Потом — через несколько дней, недель или месяцев, никто точно не мог предсказать когда — наступало резкое ухудшение, а вернее, вторая стадия болезни. Люди теряли память, речь и рассудок и становились, как животные, причем животные нечистоплотные и тупые. Ухудшение прогрессировало, постепенно пропадали рефлексы, зрение, слух… и больные умирали.
Йоник охватила паника, но, паника тихая, на грани обреченности. Власти запретили жителям покидать город, вокруг была создана карантинная зона, которая охранялась строже, чем государственная граница.
Заболевших изолировали — отвозили в бывший санаторий на Зимней горе, спешно переоборудованный в клинику, а точнее, в закрытый исследовательско — медицинский центр. Об их дальнейшей судьбе никто не знал.
Яркие синие блики дробились в мелких лужах, упругими горошинами скакали по асфальту, но глазам от них было не больно, а тепло и весело. Воздух казался разноцветным, пропитанным солнцем и запахом молодой травы, мягким воркованием голубей и радужными брызгами дождя. У кромки тротуара двое детей безуспешно пытались поджечь влажный тополиный пух. Такой странный для Йоника апрель.
Симон Соловейчик, студент второго курса йоникского университета, возвращался домой после лекций, но по дороге успел занести в редакцию местного еженедельника три новых стихотворения и карандашный рисунок. Как всякий художник, Соловейчик мечтал стать великим, а как всякий поэт, в тайне надеялся спасти мир. Вот уже год, как люди покупали журнал исключительно ради пары зарифмованных строчек, подписанных скромным псевдонимом «Симон — сказочник». Не то чтобы этот самый сказочник отличался талантом, но он был молод, и оттого в каждом его стихе жило что-то озорное и светлое, похожее на только — только вылупившуюся из невзрачной личинки стрекозу. Оно порхало между строк, звонкой капелью срывалось с кончика карандаша, так что даже серое небо Йоника выходило у Симона не бесцветным и скучным, а радостным, полным живых оттенков.
А еще он украдкой писал роман — длинную и правдивую историю настоящего Сказочника, имя которого он себе легкомысленно присвоил, Ханса Сказочника. О Хансе в городе рассказывали неохотно, и Симону приходилось подолгу просиживать в библиотеке, листая старые подшивки газет, чтобы выудить хоть какую-то информацию о своем герое. Потом каждую найденную фразу, каждый вытащенный из забвения штришок Соловейчик расцвечивал образами, которые подобно воспоминаниям всплывали в голове, так что он и сам не понимал в конце концов, где правда, а где выдумка. И чем дальше писал, тем больше ему казалось, что все, им сочиненное — правда.
Но главное поведал о Сказочнике профессор философии, лекции которого Ханс когда-то слушал в тех же самых стенах, что теперь Симон.
«Он был очень похож на тебя, — говорил пожилой философ, промакивая салфеткой слезящиеся глаза. — Такой же долговязый и худой… и нос с большой горбинкой. Я бы подумал, что вы братья. Тебе не мешает в жизни твой нос, Соловейчик? Ему мешал…