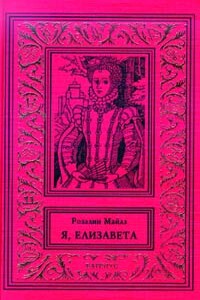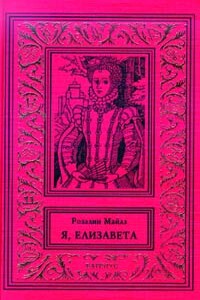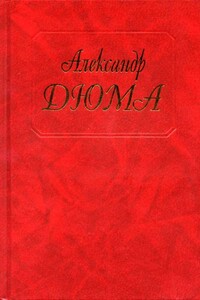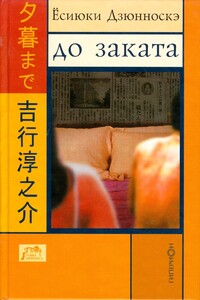Когда бы все моря земли
Одним огромным стать могли,
Вот это было б море!
Когда б деревья всей земли
Одним огромным стать могли,
Вот это было б древо!
И все на свете топоры
Одним огромным стать могли,
Что это был бы за топор!
Когда бы люди всей земли
Одним огромным стать могли,
Вот это был бы человек!
Когда б свалил тот великан
Огромным топором
В пучину дерево-гигант,
Вот был бы шум и гром![1]
Разные бывают моря.
Вблизи города море иссиня-черное. Его отношения с сушей вполне ясны – суша взяла верх над морем. Здесь нет отлогого песчаного побережья, изломанная граница берега образована бетонированными складами, подъемными кранами с мощно разинутыми челюстями, темными громадами газгольдеров. Продираясь сквозь них, море пытается вгрызться в сушу, но эти усилия тщетны. Непрерывно принимая в себя выделения города, море, неподвижное, замерзшее, испускает зловоние. Трупный запах, мертвое море. Облик его не меняется от времени, изменяется только окраска. Оно бывает красным, оранжевым, серым… Цвет всегда мутный, застойный. Даже если море отражает свет луны, не следует обманываться: под тонкой, сверкающей серебром поверхностью – чернота.
Впадающие в залив каналы не приносят свежей воды. Они тоже мутные и тоже зловонные. Каналы – точно следы когтей моря, исступленно пытавшегося вторгнуться в сушу.
В моторной лодке – инвалид-рулевой, потерявший руку на войне, вдова, увешанная множеством украшений, и я, тогда еще подросток.
Металлическое суденышко с низко погруженной в воду кормой в лучах щедрого полуденного солнца выглядит уродливо, так, словно присело на корточки, но у меня прекрасное настроение, и выход в море нашей посудины мне кажется романтичным. Правда, это настроение длится недолго.
Лодка бесцельно носилась по воде. Мы вошли в канал и стали подниматься против течения. На плавучей землечерпалке заработал подъемный кран. Земля, извлеченная со дна, была необычного черного цвета, она отливала вязкой бархатистостью. Русло канала резко сузилось, и моторная лодка, как будто съежившись, скользнула вдоль самого борта землечерпалки.
На мгновение стало не по себе. В нос резко ударил запах черной земли, и мне сразу же представилось, как я босиком ступаю по грязи. Делаю шаг – и между пальцами проступает вязкая блестящая масса, точно высовываются черные языки.
Раздался громкий радостный вопль. По разбитой асфальтированной дороге, шедшей вдоль канала, бежало множество босых ног. Подняв глаза, я увидел широко открытые рты на чумазых лицах. Рты, разинутые так, что была видна красная слизистая оболочка. Дети городских трущоб бежали рядом с нашей моторкой, которая поднималась против течения.
Вдова встала в качающейся лодке во весь рост. Она приняла позу примадонны, точно актриса на сцене, освещенная огнями рампы. Милостиво улыбаясь, вдова широким жестом стала разбрасывать карамельки. Радостный визг усилился, и улыбка на лице вдовы совсем размякла. Ползая по земле, ребятишки подбирали карамельки. Один подбежал к самой кромке берега, требовательно протянув руки. Вдова принялась бросать бананы, отрывая их по одному от грозди. С тяжелым тупым звуком они шлепались на мостовую. Всякий раз, как женщина поднимала или опускала руку, я отчетливо слышал, как негромко звякал браслет из слоновой кости у нее на запястье.
Запах ила еще усилился. Я затосковал по чистой воде, сверкающим на солнце гребням волн, по ветру, наполненному запахом моря.
Спустившись вниз по каналу, лодка вновь вышла в море.
На этот раз выход нашего судна уже не казался мне романтичным. Лодка была просто-напросто грудой черно-красного ржавого железа. Посвежело, и пустой рукав инвалида-рулевого лениво заколыхался на ветру. Ветер принес с собой запах гниющих отбросов и еще какую-то вонь, ту самую, которую я только что остро ощутил в канале. И тут наконец до меня дошло, что это пахло от женщины – пот, смешанный с ароматами парфюмерии. Я остро ненавидел вдову, и этот запах навеки отложился где-то в закоулках памяти.
Я сижу в одиночестве на вершине песчаной дюны, лет мне все еще немного.
Передо мной расстилается прозрачное голубое море, сверкают белизной гребни волн. Морской ветер прилежно гладит щеки. Пейзаж этот приятен, но что-то в нем безотчетно тревожит. Водная гладь несомненно живая! Вода, должно быть, где-то соединяется с морем возле города, но все равно это два совершенно разных моря.
Тогда, в моторке, я ничуть не боялся окружавшей меня воды. Но когда случалось оказаться посередине бескрайней равнины, простиравшейся от песчаного побережья до линии горизонта, меня охватывал панический страх. Каждая частица воды была живой, угрожала, скалилась, широко обнажая зубы. Солнечный свет ослепительно искрился в небе и на морской поверхности. Сверкание это было чрезмерным, морской ветер – чересчур соленым. Безжизненный блеск был живым, охотился за мной, и мне было страшно.
Я вдруг остро ощутил запахи того канала и даже затосковал по человеческому запаху, пусть даже запаху пота вперемешку с запахом ила.
«Нет, с этим морем я бы не хотел иметь дела», – подумал я. И еще подумал, что здесь, на вершине дюны, я в безопасности, и отвел глаза от моря. И в то же мгновение волна с белым гребнем, одна из тех, что накатывали мерной чередой, вдруг разбухла и поднялась. «Встала на дыбы», – промелькнуло в сознании. Высокая стена воды двинулась по песку к дюне, где я сидел.