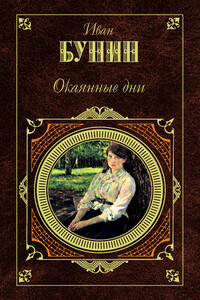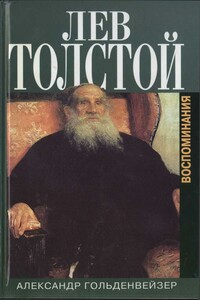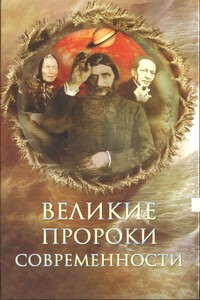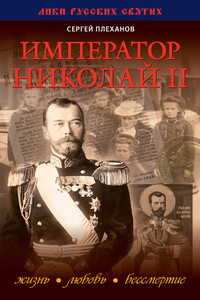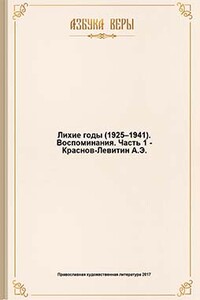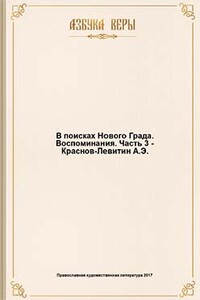Предыдущую книгу я окончил описанием жаркого ленинградского утра 22 июня 1941 года, когда заикающийся голос Молотова трагично ворвался воскресным днем в нашу питерскую гостиную на Тучковой набережной, на Васильевском острове.
Балкон. Празднично одетые люди с перевернутыми лицами, снующие по набережной. В кожаном кресле бержере бледный, взволнованный отец. Церковь белого цвета на другом берегу Невы — Владимирский собор.
Ощущение катастрофы. В один миг все рушилось. Страшно и весело. Достоевский утверждает, что на пожар нельзя смотреть, не испытывая некоторого удовольствия. Это чувство я испытал в первые дни войны.
Сколько было всяких дел: ученики, аспирантура, экзамены. И вдруг в один момент все рушилось. Ничего не надо. Такое ощущение бывало в детстве, когда прогуливал в школе, убегал из дому, ночевал на лестницах.
«Толя, вы с ума сошли. Ну, чему это вы радуетесь, всегда вы были ненормальный», — говорила мне Дора Григорьевна, старый, верный, неизменный друг.
«Да я не радуюсь. Но ведь плакать делу не поможет», — отвечал я.
Впрочем, в городе в это время у всех было какое-то странное, суматошное состояние — одни уезжали, другие собирались уезжать, третьи чего-то ожидали. Пошли мы с Дорой в это время в Александринку, на «Суворова». Играл Скоробогатов. Заключительная сцена: к больному умирающему Суворову приходит Кутайсов — адъютант и любимец императора Павла.
Чеканным голосом, выполняя высочайшее повеление, — выговор Суворову. И заключительный вопрос: «Что передать Его Императорскому Величеству?» Слабый, задыхающийся голос: «Скажи Государю, что Суворов умер». Затем, после ухода Кутайсова, вскакивает, как на пружинах, подбегает к окну, кричит: «Эй, ты, скажи Государю: Суворов жив, Суворов жив, Суворов жив». Шквал аплодисментов. Аплодируют все: старики и молодежь, советские парни и ярые антисоветчики. Всех задел за сердце Суворов.
А на заборах плакат: «Бьемся мы здорово, колем отчаянно. Внуки Суворова, дети Чапаева». На улицах только что отмобилизованные солдатики со страшными, землистыми лицами. Обреченные. Никогда не забуду этих лиц — застывшее отчаяние и ужас. Рассказывали: у нас на Васильевском, на углу Среднего и Первой линии, один вырвался из строя, бросился под трамвай, спасли, а через два часа расстреляли.
Мой двоюродный брат Жорка, всего месяц тому назад пришедший из армии, собиравшийся жениться, был мобилизован 22 июня в день объявления войны, отправлен в неизвестность. Последнее письмо из-под Смоленска: «Я еще жив, чему сам удивляюсь». И точка. Больше никто, никогда его не видел и ничего о нем не слышал.
Другой двоюродный — техник завода «Вулкан», выпускавшего танки, — вместе с заводом в первые дни войны уехал в Ташкент. Впоследствии, в декабре 41-го, были мы у его матери, тети Нины. Это был самый ужасный месяц блокады. Все мы чувствовали себя обреченными. Заговорили о Сереже. Я сказал: «Единственный из нашей семьи, кто выживет». Было нас пятеро: две мои тетки Нина и Валя, отец с женой и я. Вдруг тетя Валя неожиданно резко: «Ничего нельзя знать». Я: «Ну это-то можно знать: в Ташкенте что может случиться?» На другой день, утром рано, приходит Валентина Викторовна. Я спал в гостиной, так как в моей комнате был полярный холод. Отец с мачехой еще не вставали. Тетя Валя вошла, привычным жестом светской дамы поправила шляпу перед зеркалом, села на диван, сказала: «Сережа-то умер». Я так и окаменел. «Как умер?» — «От тифа. Я получила телеграмму из Ташкента от его жены, не знаю, как сказать об этом Нине». Я: «Не говорите, не говорите. Пусть не знает». Все равно узнала через два дня.
В городе была бомбежка. Выходит тетя Нина в переднюю, на подзеркальнике белый листок, телеграмма из Тифлиса от второй жены Арсена Яковлевича, отца Сережи: «Как женщина женщине выражаю соболезнование по случаю смерти вашего сына». Это была блокадная зима. Телеграммы, как правило, не доходили. Почта не работала. Надо же было, чтоб именно эта телеграмма дошла.
Но это было после. Летом никто ничего не знал, только предчувствовали. Немцы? А какие они? Говорили разное. В больнице имени Боткина, где я лежал в сентябре, со мной вместе был старый ленинградский актер из хорошей семьи, в советское время переквалифицировавшийся в заведующего столовой. Сказал жене: «Собираюсь умирать». Жена: «Сейчас умирать? Ты с ума сошел! Сбылись же наши мечты. Старый режим возвращается».
А в июле, в сквере около памятника Екатерины Второй, встретил коллегу, старую учительницу, смелую женщину с независимым характером. Муж ее был эсером. Когда-то я работал под ее начальством. Она была заведующей учебной частью, я — учителем в школе неграмотных. «Как поживаете, Зинаида Васильевна?» — «Плохо, вчера арестовали сына, Олега». — «Ужас. Ну, а как в дальнейшем?» — «Тоже плохо, еще хуже». — «А нам с вами почему?» — «Да ведь они, немцы, не разбирают оттенков: кто красный, кто розовый. Всем одна дорога».