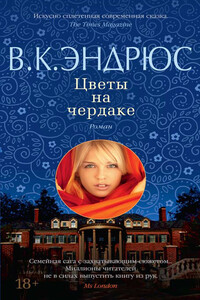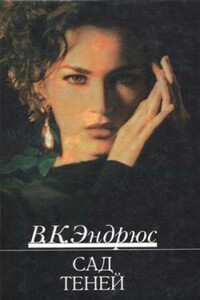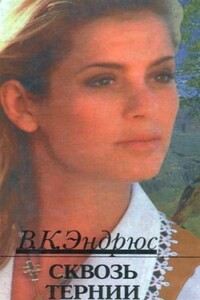По вечерам, когда тени становятся длинными, я тихо и неподвижно сижу возле одной из мраморных статуй Пола. Я слышу, как статуи шепчут о прошлом, которого мне никогда не забыть, и робко намекают на будущее, которое я пытаюсь игнорировать. Призрачно мелькая в бледном свете восходящей луны, обманчивые сожаления говорят мне, что сегодня я могла бы сделать все по-другому. Но я такая, какая есть, мною управляют инстинкты. Похоже, я никогда не переменюсь.
Сегодня я нашла в своих волосах серебряную нить, напомнившую мне, что скоро я могу стать бабушкой, и меня пробрала дрожь. Какая бабушка из меня выйдет? А какой матерью я была? В сладостных сумерках я сижу и жду, что Крис подойдет ко мне и скажет своими голубыми глазами, что я никогда не поблекну, ведь я не бумажный цветок, а настоящий.
Он обнимет меня, и я положу голову ему на грудь. Мы оба знаем, что наша история почти завершена и что Барт и Джори даны нам обоим, неважно, к хорошему или к плохому.
Теперь это их история – история Джори и Барта, – и пусть они расскажут ее по-своему.
Если папа не заезжал за мной в школу, то желтый школьный автобус высаживал меня в пустынном месте, где я вытаскивал из ближайшей канавы свой велосипед, который оставлял каждое утро там же, ожидая автобуса.
На велосипеде я ехал по узкой безлюдной дороге, вдоль которой совсем не было домов, до огромного особняка. Этот особняк всегда притягивал мой взор. Я гадал, кто жил здесь раньше и почему теперь он пуст. Когда я доезжал до него, то считал себя почти дома.
Наш дом стоял на отшибе. К нему вела дорожка, на которой было больше изгибов и поворотов, чем в головоломке, где мышка идет к сыру. Жили мы в Фэрфаксе, в тридцати километрах к северу от Сан-Франциско. Неподалеку был океан, а горы были покрыты сосновым лесом. Климат здесь был достаточно прохладный. Туманы часто гостили в наших местах, перекатываясь волнами через долины. В тумане все вокруг делалось зыбким и влажным, но романтичным.
Как бы мне здесь ни нравилось, я навсегда сохранил смутные ностальгические воспоминания о южном штате, где мы жили раньше; о саде, в котором росли гигантские магнолии, все в ниспадающих бородах испанского мха. Помнил я высокого человека с черными, но начинавшими седеть волосами, человека, который называл меня сыном. Я помнил даже не его лицо, а то ощущение тепла и надежности, которое от него исходило. Подозреваю, что самое печальное открытие для взрослеющего человека – это потеря уверенности в том, что кто-то большой и сильный надежно оградит тебя от всяких напастей и даст блаженное ощущение безопасности. Никто уже не возьмет тебя на руки…
Крис – третий муж моей мамы. Мой родной отец умер еще до моего рождения, его звали Джулиан Марке, и в балетном мире он был очень известен. Но вряд ли кто за пределами Клермонта, что в Южной Каролине, знал доктора Пола Скотта Шеффилда, второго мужа мамы. В том же самом штате, в городке Грингленн, живет сейчас моя бабушка по отцу, мадам Мариша.
Каждую неделю я получаю от нее письмо, а каждое лето мы навещаем ее. Она так же, как и я, мечтает о том, чтобы я стал самым знаменитым в мире танцовщиком. И я стану, я докажу это всем; мне надо поддержать семейную традицию и достичь славы, до которой не дожил мой отец.
Мою бабушку никак нельзя назвать старушкой почти семидесяти четырех лет. Когда-то она была знаменитой балериной, и она ни на минуту не позволит миру забыть об этом. У нас даже договор: никогда не называть ее бабушкой, когда вокруг людно и я могу выдать ее возраст. Она как-то прошептала мне, что согласна, чтобы я называл ее мамой, но мне это не нравится, ведь у меня есть настоящая мама, которую я обожаю. Поэтому я называю ее мадам Мариша или просто мадам, как многие ее знакомые.
Когда мы возвращаемся каждый год из Южной Каролины в свою долину и в свой длинный дом из сосны, мы чувствуем себя уютно и спокойно. «В уютной долине, не продуваемой ветрами», как часто говорит мама, будто ветер – главная для нее неприятность.
Я доехал до дома, припарковал велосипед и вошел в дом. Нигде не видно ни Барта, ни мамы! Я побежал в кухню. Эмма готовила обед. Она провела на кухне большую часть своей жизни, и оттого у нее такая «приятно округлая» фигура. У Эммы длинное, суровое лицо, но это пока она не улыбнется; к счастью, она почти всегда улыбается.