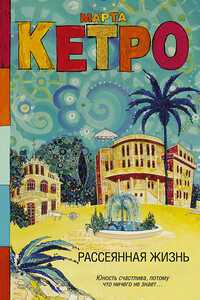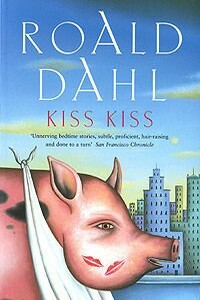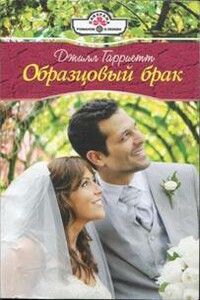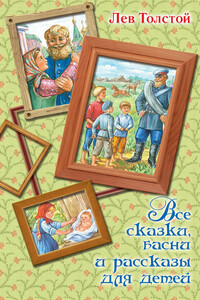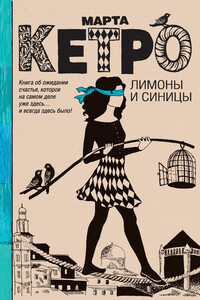Секрет добрососедских отношений обитателей последнего дома на улице Аронсон состоял в том, что все они искренне считали друг друга сумасшедшими. Поэтому общались с добродушным смирением, изредка срываясь в шумные свары, но без зла — что с психов возьмёшь.
И вдруг сегодня Поль проснулась оттого, что безобидная, обычно тишайшая Тиква ревела, как медведь: «Шлюююхаааа!»
Кричала, конечно, по-арабски: «Шармута!»
Из дальнейшего скандала стало ясно, что соседский сеттер Рочестер спросонок попытался напасть на какую-то из бесчисленных кошек, которых прикармливала Тиква. С одной стороны, Поль радовалась, что та подбирает несчастных животных, служащих прочим равнодушным гражданам живым укором, но с другой, Тиква была противницей стерилизации. Как-то перехватила Поль на улице и со слезами на глазах рассказала, что пропал её любимец Васья, три дня не было, а потом вернулся нецелый: «Представьте, его поймали и скастрировали!»
— Какое горе, — холодно ответила Поль.
По самым примерным подсчётам во дворе ошивалось уже два десятка кошек и число их неуклонно росло.
И сегодня Рочестер, провожавший в детский сад заспанного Джулиена, не сдержался. Напрасно его хозяйка, очень вежливая американка, бесконечно извинялась — Тиква кричала так, будто кошку порвали на клочки, а потом долго сидела на лавочке во дворе, являя собой воплощённую скорбь: смотрела в одну точку и ни с кем не здоровалась.
У Тиквы был очаровательный русский язык, её привезли в Израиль в три года и с тех пор прошло четыре с лишним десятка лет, но она сохранила довольно чистую, своеобразно окрашенную речь, которая была бы милой, если бы не лёгкое, но очевидное безумие. Поль, про себя называвшая соседку «старушкой», поразилась, когда посчитала её годы — Тиква-то ненамного старше неё, а как выглядит. Правда, иногда она находила работу или мужчину и тогда наряжалась, подкрашивала губы, выпускала из тугого пучка кудряшки и отчётливо преображалась, но не столько благодаря невинным ухищрениям, сколько от внутреннего сияния. Некоторая умственная отсталость сообщала Тикве непосредственность, она не стеснялась светиться от счастья, когда подбирала очередного возлюбленного — в последний раз это был бродяга, одеревеневший от пьянства. В начале отношений они устраивали свидания во дворе, парочка подолгу сидела на скамейке, и Тиква щебетала, не смущаясь отсутствию эмоциональной реакции у своего кавалера. Потом сладились, зажили семьёй и начали ходить за покупками в дешёвый супермаркет «всё по пять шекелей». После зимних дождей бомж исчез, а Тиква погасла и перестала распускать волосы — до следующей любви. Её имя означало «Надежда», и Поль не могла вообразить более правдивого воплощения этого подлого чувства, чем простодушная, доверчивая, безумная седая девочка.
Несмотря на то, что Поль жила на Аронсон больше года, она толком не знала своих соседей. Была семья американцев, чьи голоса раздавались под её окнами с плотными жалюзи, которые она всегда держала полуприкрытыми. Поль запомнила только имена обоих детей и собаки, потому что слышала, как их окликали, но зато ей было известно многое другое. Старший, Джулиен вечно кашлял, и Поль иногда беспокоилась из-за его бронхита. Он говорил с родителями на иврите, но отец отвечал ему на английском — билингва растили, стало быть. Папа шутил, всё время напевал и болтал с детьми сквозь улыбку; голос матери был не очень приятный, какой-то старообразный, но Поль ей многое простила, когда услышала, как она, укладывая младенца в коляску, извинилась перед ним: «Сожалею, Сэмуэль, ты голоден, но…» Больше всего на свете Поль ценила хорошее воспитание, ведь вежливость — это единственное, что люди по-настоящему должны друг другу, — никто не обязан быть тёплым и дружелюбным, но быть вежливыми извольте, это вопрос минимальной гигиены общения.
В этом смысле её совершенно устраивали Тиква и американцы, последние только в теории — она не перебросилась с ними и словечком. Более того, первые полгода она их даже не видела и только представляла, ориентируясь по голосам. Папа наверняка блондинистый высокий клерк в белой рубашке, а мама невзрачная широкозадая брюнетка в очках. В иврите было обидное, но честное словечко «шмануха», от слов «шмена» — жирная, и «намуха» — низенькая, вот такая. Но как-то Поль шла мимо фалафельной возле рынка Кармель, услышала знакомую улыбчивую речь, оглянулась и поняла, что угадала только с очками. Женщина оказалась хоть и маленькой, но стройной, а мужчина невысокий, тёмный, типичный бритый тель-авивец в майке, никакого лоска.
Безымянной осталась и соседка-певица, которая читала рэп и обожала выводить джазовые рулады, страшно фальшивя. При этом умудрялась преподавать вокал, раскрывала голос начинающим исполнителям: что-что, а драть глотку от души она умела. Зато Поль знала имена пожилого наркомана в завязке (Дани), которого навещала сотрудница соцслужбы, и дементной старушки — Ривка. К той приходила чуть более здравая подружка и выкликала во двор, чтобы пособачиться. Сути конфликта Поль не понимала, как, впрочем, и обе его участницы. Ривка иногда что-то кричала Поль из окна, та улыбалась в ответ и шла к себе. В её квартирку вело отдельное крыльцо и контакт с соседями получался минимальный, был свой маленький дворик, где она расставила цветы и развесила зеркала, подобранные на помойке. Иногда находила горшки перевёрнутыми и грешила на Дани, у которого бывали приступы агрессии.