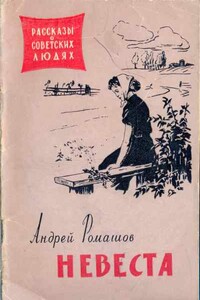Придется сказать правду, всю правду, говорит мой друг С., постукивая тыльной стороной правой ладони по столу. Он смотрит на меня с сожалением, потому что не только знает эту правду, но и готов ее поведать, извини, но ты снова решила потратить время и силы на жалкого и — главное — бессовестного типа (С. дважды ударяет по столу ладонью, произнося слово «бессовестный») и собираешься превратить презренного, мерзкого человека в героя. Да, говорит С., в творчестве всякое может случиться, в романах всякое бывает, надеюсь, ты хоть это понимаешь, спрашивает он с печалью во взоре и голосе.
В саду вокруг нас бегают дети, пихаются, спорят. Подбегают к сидящим за столами взрослым и спрашивают, когда же можно будет наконец пойти в дом поиграть на компьютере или посмотреть телевизор. Взрослые отвечают нет, нет, нет, сегодня вечером никаких компьютеров, в дом не входить, о телевизоре не может быть и речи, брысь отсюда, играйте в саду, вы только посмотрите, какой дивный сад, какой чудный вечер, тихий июльский вечер.
Мой друг С. много пьет. Много говорит и много пьет. Твой пресловутый олигарх, продолжает он, глядя на меня исподлобья, ограбил свою страну, обогатился сверх меры, по его «заказу» совершались гнусные убийства, да-да, именно так, и не пытайся меня убедить, что он этого не делал.
Я разрезаю инжирину и открываю рот, чтобы отправить туда фрукт и попытаться вставить слово, но С. мне не позволяет. Он не дает себя перебить, его не интересует мое мнение, он хочет навязать мне свое. Когда занимаешься нефтью, как твой приятель Ходорковский (я бы и хотела возразить — мол, он мне не приятель, но рот занят инжиром), и ухитряешься на «раз-два-три» положить в карман пятнадцать миллиардов долларов, в свой личный большой карман (мы оба знаем, о чем речь, кривится С.), и делаешь это в стране, где народ подыхает от отчаяния (он снова ударяет по столу), что еще хуже, чем подыхать с голоду, добавляет он, у него заводится немало врагов, хищники бегают стаей, дорогая, и, если вступают в схватку, то бьются насмерть.
Мой друг С. — несколько месяцев назад он отпустил длинные волосы — считает своим долгом откровенно сказать мне и не отказывает себе в этом удовольствии, что не понимает, почему я интересуюсь субъектом, который и гроша ломаного не стоит, нет, правда, не понимаю я твоего отношения, это просто… просто, повторяет мой друг С., просто аморально, подсказываю я, видя, что он никак не подберет слова, просто смешно, категорически заявляет С., он наконец нашел нужное определение.
Смешно, удивляюсь я, ты действительно находишь это смешным?
Так смешно или аморально?
Смешно, упорствует С., искренне сожалея о моем выборе.
Смешно, что еще хуже, чем аморально.
И подливает нам вина, хотя мы оба уже достаточно выпили.
В наступивших сумерках плачут дети, они устали и капризничают. Одна из женщин вдруг говорит, надо бы уложить малышей, это Даниэль, всегда безупречно собранная, не забывающая о чувстве долга, остальные женщины вторят ей хором, пора уложить малышей, малышей, малышей, но сколько их, где они, как их всех отыскать в кустах и на деревьях?
Я наблюдаю за своим другом С., он пьет — торопливо, частыми глотками, как будто боится опоздать на поезд. Он пьет и остается невозмутимым, словно бы и не слышит ни детского плача, ни слов Даниэль, ни голосов других женщин, хотя они говорят, пора укладывать детей, и их слова в этот тихий июльский вечер адресованы всем, в том числе моему другу С., у него двое малышей и двое детей постарше, он теперь холостяк, дважды разведенный, ему сорок три, он снова свободен, у него длинные седые волосы, и он больше не желает слышать ни о женитьбе, ни об отцовстве, нет уж, благодарю покорно.
Я смотрю на моего друга С. и вспоминаю те далекие времена, когда он утверждал, что разлюбил меня, а я заявляла, что вообще никогда его не любила, когда мы оба смотрели на любовь свысока, и мне в голову приходит мысль: лучше бы мы тогда меньше читали и просто жили. Сегодня мы оба пишем. По правде говоря, мы уже тогда писали, конечно, не так, как сейчас, не регулярно, но это не значит, что его и моя жизнь так уж сильно изменились. Этой июльской ночью мой друг С. говорит, что никак не может постичь природу моего интереса к русскому олигарху Михаилу Борисовичу Ходорковскому, отбывающему срок на сибирской каторге. Он даже дает понять, что этот интерес, как и завороженность подобным персонажем (слово «персонаж» он произносит с отвращением), вызывают у него презрение, и тут мне становится ясно: выйди я замуж за С. в те времена, когда он утверждал, что разлюбил меня, а я заявляла, что вообще никогда его не любила, но он все-таки хотел на мне жениться, у моего милого друга было бы в активе три развода, а не два. Не говоря уж о ребенке, которого мы бы наверняка завели и сейчас снимали бы с дерева, чтобы уложить спать одновременно с теми, что дерут глотку в саду.