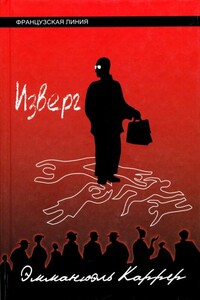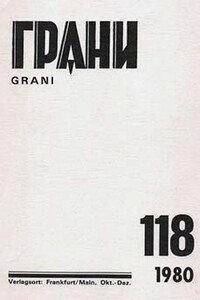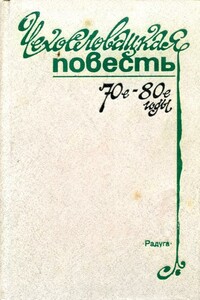Моя жизнь долгое время была похожа на уходящее лето. Странно, но это так: случается, на исходе печальных дней, под безнадежно застывшим небом внезапное осознание того, что скоро осень, вступив в свои права, раскрасит пейзаж серым, вызывает во мне чувство, граничащее с ужасом. Не кажется ли вам, что стало немного прохладней?
Сегодня мне кажется, что в моей жизни осталось лишь прошлое.
Однако я еще не сдался. Я все время искал лицо, то самое лицо из нежных юношеских грез, чтобы влюбиться. И, прильнув к оконному стеклу, как делают все безнадежные мечтатели, я пытался его себе представить.
— Вы боитесь смерти?
— Да, конечно.
История могла бы начаться так: у подъезда дома О. она как-то по-детски открывает дверь, еле заметно кивает ему головой — само собой, это приглашение. Наверно, уже первый час ночи, они вместе поужинали, и теперь Тристан должен решиться. «Зайдешь, выпьешь чего-нибудь?» Он хмуро на нее смотрит, взглядом, который она не совсем понимает. Она еще не знает, с кем имеет дело.
Они поужинали в итальянском ресторане, недалеко от ее дома. За дыней с пармской ветчиной и вином болтали как ни в чем не бывало. После ужина решили еще зайти выпить стаканчик-другой, чтобы потянуть время. Когда сомнения превращаются во флирт, возникает ощущение, подобное алкогольному опьянению.
Она жила неподалеку, и он предложил проводить ее. Теперь они стояли у ее дома. Вот оно — начало моей истории: она как-то по-детски открывает дверь, еле заметно кивает ему головой — само собой, это приглашение. Тристан должен решиться: «Я поднимаюсь или…»
Если история начинается именно в этот момент, то лишь потому, что, оглядываясь назад, именно там я нахожу объяснение всему, что произойдет дальше, первую ноту циничной и жестокой, но в конечном счете комичной партитуры.
Стоя внизу у дома О., Тристан думает об Амели. Он понимает, что сегодня вечером впервые изменит ей. А верил ли он вообще, хоть однажды, что ему удастся избавиться от этого безумия, толкавшего его из одних женских объятий в другие? В самом начале, быть может. Но «самое начало» еще ничего не значит, тогда все видится иначе.
Амели, словно воришка, прокралась в его жизнь. Они случайно встретились, вот и все. Он и сам не смог бы объяснить, почему полюбил ее. И вот теперь он стоит здесь, у этого дома, с другой девушкой и знает, что изменит Амели. Сейчас он в этом уверен.
Конечно, Тристан хочет «подняться и выпить глоточек чего-нибудь». Чтобы не выдать желания, он отвечает безразлично. Он соглашается таким тоном, словно отказывается, хотя это вовсе не так.
О. уже набрала код и вошла первой.
Как это случилось? Он встретил О. неделю тому назад. Они познакомились, как знакомятся миллионы людей, на обычной вечеринке. В первый момент она не показалась ему ни красоткой, ни дурнушкой; она вообще ему никак не показалась.
Позже он обратил внимание на ее голос, удивительным образом напоминавший ему голос девушки, которую он когда-то любил. В этом голосе тридцатилетней женщины слышались нотки девичьей нерешительности, еще не раскрывшаяся чувственность. Он пошутил, она засмеялась. Но все это было лишь банальным предлогом: конечно, дело было не в О.
Он с самого начала знал, что однажды изменит Амели. Изменит с первой встречной: в тот вечер ему повстречалась О., вот и все.
Они молча поднимаются по лестнице на четвертый этаж. У нее двухкомнатная квартира. Она извиняется за коробки, говорит, что только что переехала. Пока она идет на кухню, чтобы принести что-нибудь выпить, Тристан осматривается. На камине стопка книг. Среди них одна в желтой обложке, называется «Все — болезнь». Он задумывается и не может с этим не согласиться: мы и впрямь ни от чего не излечиваемся. От добродетели тоже умирают.
О. возвращается. Она протягивает ему бокал. Говорит, что привезла это вино из Рима. Несколько мгновений они молча смотрят друг на друга. Внезапно Тристану чудится, будто это молчание проникнуто чем-то особенным, но неуловимым, тем, что отличает паузу в разговоре от очевидной пустоты любых слов.
Впрочем, что тут сказать? Не может же он лгать сам себе, он-то знает, зачем пришел, это ясно без слов. Он залпом выпивает вино, сейчас ему хочется, чтобы все произошло поскорей. А она садится на диван и начинает рассказывать ему, что раньше у нее была квартира побольше, но там все время пахло сыростью. Как, собственно, во всех домах этого района… Он не слушает, лишь одобрительно улыбается — улыбка весь вечер не сходит с его лица, обещая назавтра неприятную разбитость. Он представляет, как выглядит с этой натянутой гримасой гнусной лжи, подобно балерине, которая, повредив ногу во время спектакля, вынуждена терпеть до конца представления. На смену прежнему пылу, былой горячности незаметно пришли изощренная осторожность и предупредительность, явно свидетельствовавшие о том, что он легко способен все разрушить, что в его власти, от которой он и сам пытается защититься, — отравлять жизнь.
Вдруг на середине фразы он целует ее. Она делает вид, что удивлена, кокетливо возмущается, чтобы показать, что ее так не прерывают. Потом расслабляется, отдается.