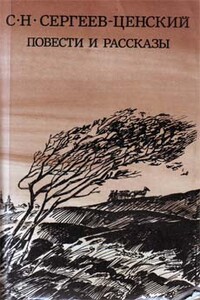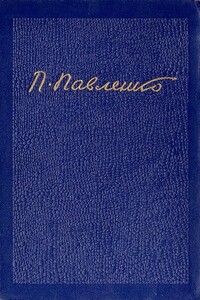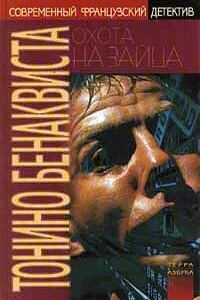В голове колонны шагает капрал Харабаджиу. Обмоткой закутана шея, полы шинели заправлены под ремень. Идет медленно, понуро, изредка приговаривая ласково одно и то же:
— Пошел, гнедой, пошел…
Вслед за капралом катят четыре военные повозки, оплакивая свою участь тягучим перезвоном. С трудом плетутся истощенные подстриженные кони, то и дело оставляя на ледяных заплатах дороги мягкие пепельные оскользни подковы бог знает где остались…
Следом за повозками три лошади с трудом тащат полевую пушку. Кто-то от нечего делать заткнул ей дуло пучком соломы. Пушка беспрерывно подпрыгивает на ухабах, и кажется, что ствол без конца силится, да никак не проглотит солому…
За пушкой бежит тощая собачонка, прихрамывая то на одну, то на другую лапу. Видать, болят все четыре, но она прихрамывает по очереди, давая каждой передохнуть. Чья она и откуда, кто знает?.. Должно быть, почуяла, что войско возвращается домой, и увязалась за ним: а вдруг дома солдаты вспомнят, что была она им товарищем в пути, и подыщут ей какую-нибудь конурку…
Замыкает колонну капитан Фулжер. Едет медленно на рыжей кобылке. Бросил поводья, запрятал руки в рукава и сидит зажмурившись, — может, дремлет, может, пытается собрать все военные дороги в одну-единственную, а может, просто спит в седле…
Крым…
Простуженное солнце медленно сползает за гребешок холмов, чуть-чуть золотя узкую замерзшую дорогу, и нет у этой дороги ни конца ни края. Из-за моря дует влажный, холодный ветер. То стонет, то по-собачьему завоет, и порою в этой бродячей скорби его слышатся знакомые грустные мелодии… Солдаты вдыхают его полной грудью — наш, родной ветер. Прошел, бедняжка, целое море, полсвета обежал, а все-таки нашел… Должно быть, жена его послала или, может, дети…
Вязкая, залежавшаяся тишина. Ни человеческого голоса, ни лошадиного ржания. Только повозки отстукивают мягкий крестьянский перезвон: хай-хай, хай-хай. Одна лишь дорога — домой — звенит таким ласковым перезвоном, и все без устали слушают его. Слушает Харабаджиу, слушают солдаты, слушает капитан Фулжер, дремлющий в седле. Этот перезвон колес — их хлеб, их печка, их родня и их дети. И солдаты слушают, сеют по ветру неровную струйку старческих своих грехов. Капитан заложил два пальца за ворот шинели, подыскивая место для кадыка. Сказал вялым, скучным голосом:
— Капрал Харабаджиу.
Собачка, зная, что это длинная история, побежала в поле, опустив голову к земле: авось найдется что-нибудь съедобное.
Харабаджиу идет к капитану, глядя куда-то в пустынное поле, будто жалуется оставшемуся дома куму: «Сто раз меня вызывал этот капитан, а потом взял да вызвал еще раз…»
— Слушаюсь, господин капитан.
— Опять свалился гнедой, Харабаджиу?
— Упал, господин капитан.
— Почему не пристрелишь?
— Пристрелю, господин капитан. Ей-богу, пристрелю.
— Бегом. И пристрели. Иначе сорвешь операцию.
Сорвать отступление — это, конечно, очень опасно, но Харабаджиу и не думает бежать. Идет все тем же усталым шагом, вглядывается в широкое поле, отыскивая кума: «…И ты думаешь, что он мне сказал? Все то же…»
Гнедой уже на ногах. Дышит часто, но его дыхание уже не может растопить изморозь вокруг ноздрей. Столько он падал, бедняга, что казалось, проделал всю дорогу, волочась на спине. Дышит часто, словно ему опостылело это дыхание, ниспосланное лошадям на мучение. Ему будто все равно, как с ним обойдется Харабаджиу, — может, пристрелит, может, простит и на этот раз…
Все же, учуяв шаги хозяина, он поворачивается и долго смотрит полузакрытыми глазами на ремень капрала. Харабаджиу не замечает гнедого. Он принимается разворачивать обмотку на шее, а потом снова наматывает ее с таким расчетом, чтобы и капле ветра не просочиться.
Капитан Фулжер, ожидая исполнения приказа, достает окурок сигареты и закуривает. Солдат из артиллерийского расчета подходит понюхать табачный дымок и еще раз попытаться, в сотый раз попытаться:
— Господин капитан, а по мне — бросить бы к черту эту пушку.
— Нельзя, Михалаке.
— Отчего ж нельзя?
— А если случится бой?
— Так нет снарядов.
— Это знаешь ты, а противник не знает. Увидит пушку и испугается…
Михалаке смеется. Станет кто пугаться пушки, в которую воткнута уже солома…
Наконец Харабаджиу завязал обмотку, вышел в голову колонны, бросил три слова:
— Пошел, гнедой, пошел…
Гнедой будто понял, что и на этот раз его простили. Навалился всем телом на упряжь, поднял ногу, подержал ее, дрожащую, потом медленно опустил, затем другая нашла себе место, и колонна двинулась. Откуда-то с поля, хромая, прибежала собачонка, будто жалуясь солдатам: черта с два, и на этот раз ничего не нашла… Заняла свое место позади пушки, и повозки начали свой перезвон. Солдаты медленно шагают, слушая его, и мастерят из этого перезвона караван хлеба, теплые печки, детей, похожих на них. Изредка, когда попадется особо трудный подъем, слышится голос Харабаджиу:
— Пошел, гнедой, пошел…
Небо на западе еще румянится, но где-то вдали, над морем, уже засияли две звездочки. Мигают, прижались друг к дружке и дрожат, — видно, боятся упасть в море. Ветер бьет то сбоку, то в лицо, но капитан не достает больше свою замусоленную карту. Дорога домой — единственная дорога, которую войско проделывает без карты. Надобно только идти, чтобы беспрерывно звучало: хай-хай, хай-хай…