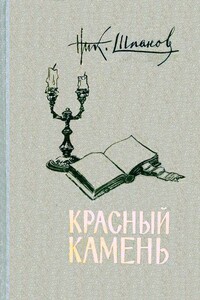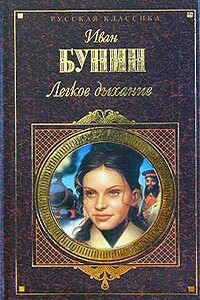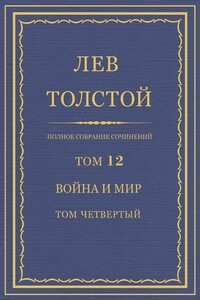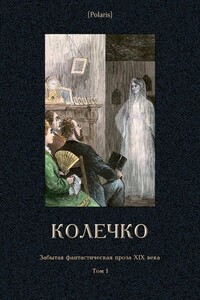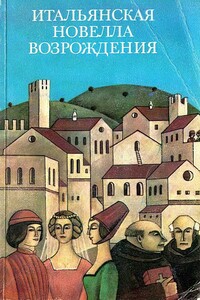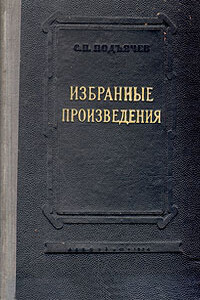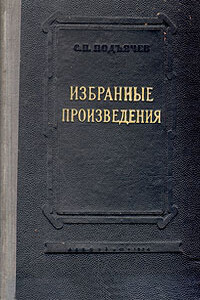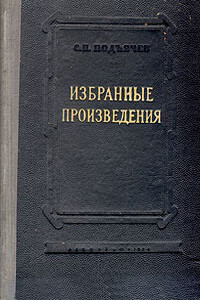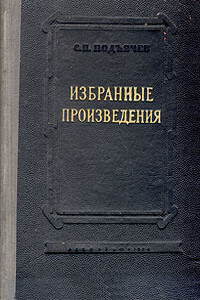Старик Илья Васильевич Неробков был на собрании, куда силком затащил его сосед, кум Иван Звонарев, ездивший недавно в Москву на выставку и возвратившийся оттуда другим, непохожим на прежнего кума Ивана, человеком, с каким-то особенным азартом рассказывающим встречному и поперечному про то, что он там видел, и как его принимали, и как он был на заводе, где видел и понял, что рабочие не даром «жрут» хлеб, как до своей поездки, с чужих слов, орал он, а что они работают и ихняя работа «куда тяжелее нашей».
— Пойдем, кум, — тащил он упиравшегося Илью Васильевича, — послушаем, что человек говорить будет. Не для себя он из городу приехал, а для нас. Неловко не идти, совестно. Диви бы у тебя дела какие, а то на печке лежишь да со снохой ругаешься. Идем. Слышал я, про германцев будет говорить, какая у них там сейчас заварошка идет.
— На кой рожон мне твои ерманцы? Знаю я их, — говорил Илья Васильевич, — спасибо! Сына у меня в войну убили, а я иди слушай про них! Не пойду!
Но все-таки в конце концов кум уломал его, и он пошел с ним.
Собрание происходило в помещении исполкома. Народу собралось человек сорок. Ждали еще, но больше никто не пришел, и приехавший из уезда докладчик приступил, сделав предварительно небольшое предисловие, к своему докладу. Докладчик, как оказалось, приехал дельный. Умело, толково и просто, не пересыпая свою речь чужими, непонятными для слушателей словами, нарисовал он картину того, что теперь творится в Германии, и еще лучше и проще показал, «разжевал и в рот положил» то, почему мы должны и обязаны внимательно следить за борьбой германского трудового люда — рабочих.
Забившись позади всех в угол, Илья Васильевич внимательно слушал его, и чем больше слушал простую, понятную и горячую речь, тем все больше и больше, выше и выше поднималась перед его глазами какая-то темная занавеска, и за этой занавеской, когда наконец она поднялась совсем, он, к удивлению своему, увидал то, чего раньше до этого не видал и не хотел видеть.
А увидал он и понял, что сына его убили не те «ерманцы», такие же простые подневольные солдаты, как и его сын, а те, о ком говорил докладчик, те, которые сейчас стараются задушить и принизить таких же, как и его сын, для того чтобы делать с ними, что им хочется, и гнать их, как «круговых овец», на убой, в огонь и вводу.
«Так вот оно в чем дело-то, — думал он, — вот им чего надо-то! А я-то, дурак, думал… Где же я прежде-то был?»
Ушел он с собрания встревоженный и пораженный тем новым, что закопошилось в его душе, и теми новыми, неожиданно увиденными им картинами, которые показал ему докладчик, открыв темную, постоянно висевшую перед его глазами занавеску.
А занавеска эта действительно висела перед ним постоянно.
Как только он, без малого шестьдесят лет тому назад, родился, так сейчас же первый повесил ее перед ним поп, после того как выкупал зимой в какой-то лоханке, называемой купелью, наполненной холодной водой. С тех пор эта занавеска тьмы перед ним не отдергивалась, а, напротив, около нее приставлены были слуги, которые, как хорошие цепные псы, откормленные и жирные, стерегли ее, и если случалось, что находились люди, которые хотели и старались поднять эту занавеску, для того чтобы показать ему, что за ней, — на этих людей псы, караулившие ее, бросались и разносили в клочья.
Так он и жил за этой занавеской и дожил до старости, не делая самостоятельно ничего, а делая только то, что приказывали люди, караулившие занавеску.
Грамоте его не учили. «Баловство одно. На кой она нам! Жили без нее и проживем без нее», — говорили ему, когда он был молодой, и то же самое твердил он, когда стал «тятя детям».
«Ходи в церковь, молись за царя с царицей, исправляй праздник Миколу и Ягорья, слушай и бойся начальства, начиная с урядника, живи в грязи, жри хлеб да картошку, ворочай, как лошадь, плати оброки» — вот все, что он усвоил в своей жизни, и никогда ему в голову не приходила мысль, проходя мимо барского имения, мимо барской кухни, где с утра до ночи шла стряпня, и повар с поваренком, одетые в какие-то белые балахоны, стучали ножами по столу, рубя мясо, и откуда всегда шел в открытые окна завлекательный дух, заставлявший невольно глотать слюни, — никогда не приходила мысль о том, почему же это так, за какие особенные достоинства люди, которых он называл «господами», живущие рядом с этой кухней, в роскошном доме, нарядные и красивые, постоянно, изо дня в день жрут приготовленные для них на этой кухне различные блюда, а он, Илья Васильевич, боится пройти мимо этой кухни и жрет у себя дома, в вонючей и грязной избе, какую-то мурцовку или полугнилую картошку, от которой только пучит живот.
Почему это так? Об этом он не думал и не мог думать, ибо те, которые закрыли перед его глазами занавеску, все силы употребляли на то, чтобы он, Илья Васильевич, знал, что для него так самим господом поставлено жрать картошку, а для них — все лучшее, ибо они «белая кость», а он «черная», они «благородные», а он и ему подобные — «чернять», «хамы», «подлые людишки».
И никогда также не приходило ему в голову, и не казалось странным, что он почему-то быстро стаскивал со своей головы картуз или шапку, издали, еще за версту, увидя идущего барина, и отвешивал ему поклоны, на которые тот едва кивал головой и проходил мимо него, кланяющегося, так же равнодушно-презрительно, как мимо какой-нибудь паршивой собачонки.