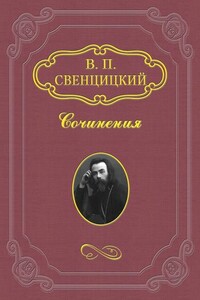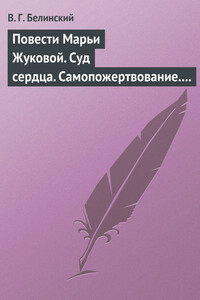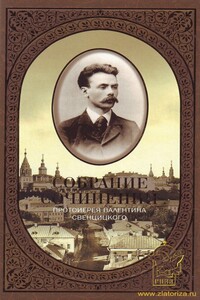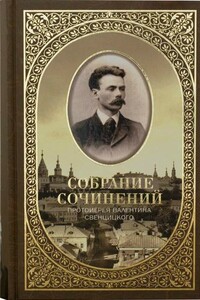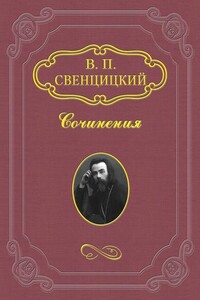В области человеческого духа бывают явления, которые почти невозможно подвести под обычные общепринятые понятия.
Творчество Николая Клюева принадлежит именно к числу таких явлений.
Назвать его: «художником», «поэтом», «писателем», «певцом» – значит сказать правду и неправду. Правду – потому что он «художник», и «поэт», и «писатель», и «певец». Неправду – потому что он по своему содержанию бесконечно больше всех этих понятий.
Даже наиболее идущее к нему слово «религиозный» в наше время всяческих подделок и лжи звучит безнадёжно-бесцветно.
«Песни» Николая Клюева – это пророческий гимн Голгофе.
Говорю «пророческий» – потому что в них раскрывается вся полнота нового «голгофского» религиозного сознания, не только мученичество, не только смерть, – но и победа, и воскресение.
В них звучит отклик тех песен, которые пели мученики Колизея[1] и древние братья на испанских кострах, – но в них же слышится новый, вдохновенно-радостный голос прощённой земли, освобождённого мира.
Это не выдумка – это живой опыт, это творческое прозрение. Здесь уже не только литература, не только «стихи» – здесь новое религиозное откровение. Если хотите, «поэзия», – но в каком-то высшем смысле, когда поэт становится пророком.
«Песни» Клюева по содержанию своему имеют два основных начала:
Вселенское – в том смысле, что в них выражается не односторонняя правда того или иного «вероисповедания», а общечеловеческая правда полноты вселенского религиозного сознания.
И национальное – в том смысле, что раскрывается это вселенское начало в чертах глубоко русских, если можно так выразиться, плотяных, чернозёмных, подлинных, национальных.
В настоящей вступительной статье я ставлю себе задачей раскрыть голгофское содержание «Песен» Николая Клюева и показать, в чём лежит внутренний смысл его новых откровений.
Мировой процесс – это постепенное воплощение «Царствия Божия на земле», постепенное освобождение земли от рабства внешнего: господства одних над другими, и рабства внутреннего: господства страдания, зла и смерти. «Освобождение земли» на языке религиозном должно быть названо искуплением. Путь к этому освобождению должен быть назван голгофским. Не дано «искупление» как подвиг единого Агнца – оно дастся как усилие всей земли. Голгофа же Христова – первое слово освобождения, первый Божественный призыв обращённый к земле: взять крест и идти на распятие – не в муку вечную, а в жизнь вечную. История мира – это восхождение на лобное место, это позорная казнь на кресте, это «Боже мой, Боже мой! вскую оставил Мя еси»[2], это предсмертные муки Богочеловека и всепокоряющая радость Воскресения.
Понимание искупления как творческого усилия всей земли и мирового процесса – как Голгофы – ведёт к двум основным выводам:
Новому учению о всеобщей ответственности.
Новому учению о будущей жизни.
«Каждый из нас за всех виноват» (мысль Достоевского) – это лишь робкий намёк на правду.
Голгофское понимание жизни раскрывает больше: не за всех виноват, а во всём виноват[3]. Каждое позорное пятно на совести человечества – позорное пятно и на моей совести. Каждый постыдный поступок мой – постыден для всей земли. Если «освобождение» общее – «искупление» общее, то и грех и преступление – общее дело[4].
Для голгофского сознания нет чужих грехов, чужих страданий. Я – убийца, я – растлитель, я – осквернил светлые ризы Божии. Но я же плачу кровавыми слезами раскаяния, я – свершаю великий подвиг любви, я – вхожу на костёр за Правду, я – приношу свою агнчую кровь во искупление опозорённой земли[5].
Отныне уже нельзя наслаждаться своей «праведностью». Как бы ни был я «чист» – руки мои в крови, как бы ни был я «целомудрен» – это я втаптываю в грязь женщину в позорных домах, как бы ни был я «кроток» – это я покрыл землю тюрьмами и кандалами. И по осквернённой, окровавленной земле – я же иду с крестом в венце терновом, во имя освобождения.
В «песнях» Николая Клюева раскрывается с потрясающей глубиной этот голгофский путь земли. Поэту путём созерцания даётся то, что религиозному сознанию даётся умозрением.
Но ещё ближе для него грядущее.
То, что я назвал «будущей жизнью».
Здесь особая новизна его и особая сила, которую – с сознанием всей ответственности этого слова – можно назвать пророческой. Николай Клюев как бы живёт уже этой новой жизнью, а не только «предчувствует» её, не только «догадывается» о ней.
Если бы в доисторические времена, когда зарождалась на земле жизнь, можно было бы рассказать «клеточке», что из неё создастся человек и вся современная жизнь, – всё это представилось бы ей, как сплошное безумие.
Таким же безумием представляются современному человеку «песни» о грядущем Царствии Божием.
Обыкновенный, живущий «настоящим» человек может представлять себе будущее в знакомых ему формах, усложняя и видоизменяя их. Он может вообразить себе новые машины, летательные аппараты, новый флот, армию, общественный строй.
Представить себе новую материю и совершенно иную жизнь он не может.
Но это безумие как непреложная истина даётся в религиозном опыте, это будущее утверждается религиозным сознанием и раскрывается религиозной поэзией