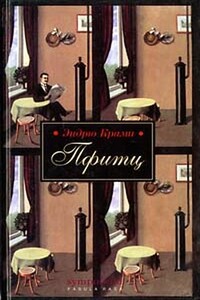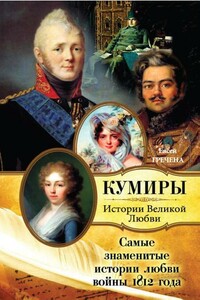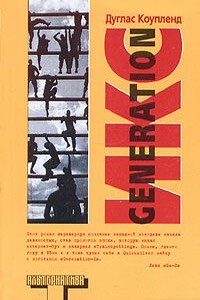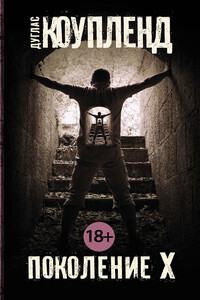В то утро, когда Джасмин (моя мать) открыла глаза, на лбу у нее жирным черным фломастером было выведено слово Р-А-3-В-О-Д, в зеркальном отражении. Едва очнувшись от сна, сама она, конечно, об этом не знала. И только зайдя в ванную почистить зубы и взглянув в зеркало (зеркало, обвитое многострадальной традесканцией, то самое зеркало, перед которым я несколько лет назад учился бриться), она увидела это слово в его надлежащем виде и завопила так, что мертвый проснулся бы, — применительно к нашему дому это значит, что своим криком она разбудила мою сестру Дейзи.
А вот меня в то знаменательное утро дома не было. Я летел над Атлантикой в «Боинге-7б7», стремительно приближаясь к родным берегам. Но потом Дейзи по телефону подробно описала мне весь этот кошмар, и сейчас, переваривая то, что я от нее услышал (Джасмин, понятно, беседовать не в кондиции), я сижу на семнадцатом этаже недурственной гостиницы при Международном аэропорте в Лос-Анджелесе, Калифорния, и вижу из окна взлетную полосу — вижу, как садятся лайнеры и как стаи птиц, которым вой турбин явно нипочем, невозмутимо что-то поклевывают, примостившись у самого края взлетной полосы.
— Какая-то ерунда, Тайлер. Толком от нее ничего не добиться, — сказала Дейзи. — В общем, ужас. Как можно было так поступить, просто кошмар! Свинство и всё тут. С души воротит,
— И куда же он направился, Дэн-то? — спросил я, имея в виду теперь уже (как я полагал) бывшего муженька Джасмин и бывшего отчима — Дейзиного, моего и моего младшего братишки Марка.
— Без понятия. Маме даже на люди стыдно показываться. Чернила так въелись в кожу, что несколько дней пришлось оттирать. Я ее от раковины буквально силком оттаскивала. Она до того себе лоб дотерла, что он у нее стал как сырой гамбургер. Сейчас она на транквиликах, такие дела.
Да, дела, думаю я про себя, опять безотцовщина. Умеет Джасмин выбирать себе спутников жизни, так и тянет ее на любителей какой-нибудь отравы, не той, так этой, вот и результат. И опять — как тогда, когда мой биологический предок, Нил, ушел от Джасмин, чтобы навсегда раствориться в наркотическом дурмане где-то в округе Гумбольдт (штат Невада) — у меня такое чувство, будто в нашем доме настежь отворилась дверь и родители объявили нам, детям, притихшим внутри: Вот незадача! Проиграли мы вас в покер, ребятки, не держите зла. Так что придется вам отсюда выметаться, прямо сейчас.
Дейзи испытывает то же, что и я. И когда наш телефонный разговор окончен — разговор, на протяжении которого Дейзи главным образом кричала, а я главным образом молчал, — я сижу на краешке кровати в гостиничном номере при аэропорте ЛА, и здесь, у меня в номере, так тихо, что я, кажется, слышу уютную, без соринки и пятнышка, чистую мебель, которой он обставлен, — и я размышляю.
Я понимаю, что я вроде как должен быть расстроен и подавлен, но, если честно, расстроиться по-настоящему мне трудно. В моей жизни наступила волнующая пора, и я не позволю судьбе отнять у меня это радостное ощущение. Я только что вернулся в Новый Свет, вернулся в мир огромных красных флоридских грейпфрутов, и понятно устроенных телефонных автоматов, и кофейных кружек без блюдец, и нормальных торговых центров, и неуемных амбиций, — вернулся, проведя потрясающее лето в Старом Свете, в Европе. И сейчас я сижу здесь и втайне радуюсь тому, что прохлопал стыковочный рейс домой, в Сиэтл, радуюсь, что на ушах у меня были наушники от плейера и я пропустил объявление о посадке, просто отключился (такие кайфовые пошли темы из Лондона, не оторваться, — машинного сочинения песенки про деньги!).
И еще я радуюсь потому, что если бы я не застрял на ночь в Лос-Анджелесе, я сейчас, в этот» самый момент, не вышел бы на балкон и не смотрел бы сверху на вид внизу, на тихоокеанский закат, такой новехонький, оранжевый, чистый, как затянутый в прозрачную пленку экзотический овощ. И я не подносил бы к носу долларовую банкноту и не вдыхал бы ее запах — чистый, приятно ничей запах, такой же, как в безупречном гостиничном номере у меня за спиной, в номере, освещенном нежным, медовым солнечным завитком. И еще — мною не владело бы ощущение, которое я испытываю, стоя здесь, на этом балконе, и обозревая разделенный на квадратики внеземной, мандариновый Лос-Анджелес: что прыгни я сейчас с этого балкона, я поплыву в теплом воздухе, над янтарными пальмами и полями для гольфа, поплыву, оставляя позади незыблемые, как закон, воспоминания о Диснейленде, поплыву над теплыми горами, и пустынями, и лесами моего новосветовского дома, — поплыву к дому.
Ну ладно, хватит.
Я разворачиваюсь и захожу опять в свой гостиничный номер, задвигая за собой дымчатую стеклянную дверь, и падаю навзничь в прохладную, застланную немнущимися простынями постель, и тут меня вдруг захлестывает новое ощущение — одновременно жуткое, романтическое и грандиозное: все равно как, вырядившись в смокинг, шлепнуться в бассейн. У меня такое ощущение, что комната, любая комната, не бывает абсолютно безмолвной — такое ощущение, будто в самой что ни на есть тишайшей, пустейшей и безсобытийной комнате всегда происходит некое событие первостепенной важности. Это событие — само Время, оно пенится, бурлит, клокочет, как речной ноток, с ревом проносясь через эту комнату, через все вообще комнаты, — Время, протекающее сквозь кровати, выплескивающееся из мини-баров, пеной и пузырями изливающееся из зеркал, Время, с его могучим несокрушимым течением, уносящее меня с собой.