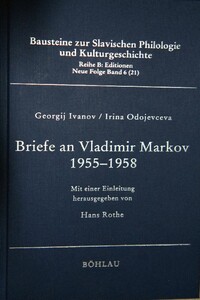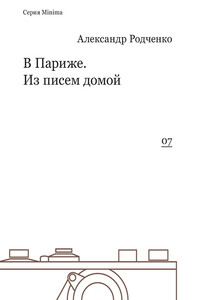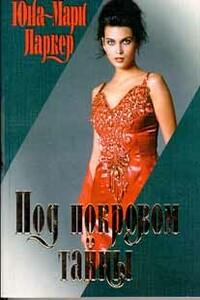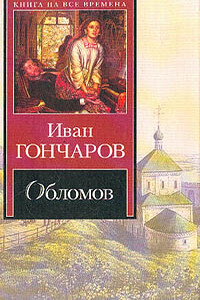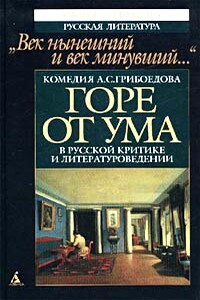Я. П. ПОЛОНСКОМУ
Начало января 1859. Петербург
Напрасно Вы думаете, любезнейший Яков Петрович, что я уступлю А. И. Фрейгангу удовольствие подписать Аполлонову поэму: Вы не так поняли дело. Я еду к нему затем только, чтоб подписать поэму при нем, чтоб он не думал, что я "тихонько беру от Вас статьи и подписываю". Я в таком только случае уступил бы ему право подписать, когда бы он настоятельно этого потребовал: но он добиваться этого не станет: не всё ли ему равно? Не предупредить мне его неловко: он может подумать, что и Вы, и я хотели нарочно избегнуть его. Словом, я хочу соблюсти обычную вежливость и некоторую осторожность, чтоб не подать повода и т. д. и т. д. и т. д. Часа через два поэма будет в типографии и подписана мною без всякого изменения.
Извините, что так мерзко пишу: я еще в постели, не хочется встать. Но лишь встану — и прямо к Фрейгангу.
Кланяюсь Вам, а Елене Васильевне — вдвое ниже.
Ваш Гончаров.
Утешьте главного Вашего редактора: еще ни один журнал не вышел.
В. П. БОТКИНУ
30 января 1859. Петербург
30 января.
Сейчас только получил я Ваше письмо, сладчайший Василий Петрович, и сейчас же посылаю Вам рекомендательное письмо к директору Кяхтинской т[амож]ни для Влад[имира] Петров[ича]. Я прилагаю и пакетик, чтобы Вы прежде прочитали, годится ли письмо; и если годится, то вложите в пакет, на котором есть и клей, чтоб закрыть его наглухо, без всякой печати. А если не годится, то напишите поскорей, что надо сказать в письме, и я пришлю другое (адрес мой в доме Устинова, а не Щербатова).
Видите, как мерзко пишу, не назовете "сладкопевцем", что делать: некогда! Кругом я обложен корректурами, как катаплазмами, которые так и тянут все здоровые соки и взамен дают геморрой. А Вы-таки не можете не читать "Обломова": что бы подождал до апреля! Тогда бы зорким оком обозрели всё разом и излили бы на меня — или яд, или мед — смотря по заслугам.
Тургеневская повесть делает фурор, начиная от дворцов до чиновничьих углов включительно. — Я всё непокоен, пока не кончится последняя часть в апреле, только тогда вздохну свободно, а вчера еще сдал всего вторую часть в печать: теперь ее оттискивают. Неожиданно выходит, вместо 3-х, четыре части, несмотря на убористый шрифт "От[ечественных] зап[исок]".
Сегодня мы обедали у Тургенева и наелись ужасно, по обыкновению. Вспоминали Вас и бранили, что Вы не здесь. Он всё по княгиням да по графиням, то есть Тургенев: если не побывает в один вечер в трех домах, то печален. Нового ничего нет.
В ожидании скоро видеть Вас, прощайте.
Жму Вашу руку
И. Гончаров.
В письме к Мессу я немного распространился о Вас: это ничего, лучше поможет.
И. С. ТУРГЕНЕВУ
28 марта 1859. Петербург
28 марта 1859.
…A propos — о дипломатах и дипломатии. Садясь в вагон у Знаменья на станции и прощаясь со мной, Вы мне сказали: "Надеюсь, теперь Вы убедились (по поводу нашего разговора накануне), что Вы не правы", и потом прибавили Ваш обыкновенный refrain: "Спросите у N.N: когда я говорил ему о том-то и о том-то". Вы могли говорить об этом очень давно, и всё это ничего не значит. У меня и в бумагах есть коротенькая отметка о деде, отце и матери героя. Но говорить о четырех портретах предков (из письма) Вы не могли. Впрочем, всё это ничего не значит: я знаю, что внутренне Вы совершенно согласны со мной. С большой досадой пошел я домой. "За кого же он меня считает? — думал я, за ребенка, за женщину или за "юношу", как назвал меня вечером в тот день Анненков". Мне и хочется теперь сказать Вам: нет, я убежден в том, в чем сам убедился, что вижу и знаю, что меня удивляет, волнует и заставляет поздно раскаиваться, и мне свидетельства свидетелей не нужно. Наш спор был тонок, деликатен и подлежал только суду наших двух совестей, а не NN, не П.П. Ужели Вы, явясь на этот спор с блестящей свитой, могли бы быть покойны и довольны собой потому только, что NN или ПП сказали бы: "Вы не правы". Как это можно: Тургенев не прав! Кто смеет подумать — это ложь и т. д., а между тем Вы в самом деле были бы не правы? Я не понимаю этого. Если б весь мир назвал меня убийцей и лгуном, а я бы не был убийцей и лгуном, я бы не смутился; точно так же, если б весь мир сделал меня своим идолом "иисусиком христом", да если бы во мне завелся маленький червячок, — кончено дело: я бы пропал. Нет, если я накануне спорил осторожно и оставил арену, не дойдя до конца, не высказавшись весь, так это потому, что есть предметы слишком нежные, до которых трудно касаться, оттого, что у меня, у "жестокого человека", есть мягкость там, где у других ее не бывает… Мне было неловко, я конфузился, только не от своей неправоты… Правда Ваша после этого, что Ваши хитрости "сшиты на живую нитку", когда Вы мою мягкость и неловкость приняли за "убеждение в неправом споре". Нет, не поверил я Вам и в том, когда Вы так "натурально" уверяли меня, что будто литературное Ваше значение вовсе не занимает Вас, что Вы касаетесь его так, мимоходом, а что живет в Вас "старая мечта, старая любовь" и по ней тоскуете Вы, по неосуществлению ее. Простите, мне послышались в этих словах стихи: