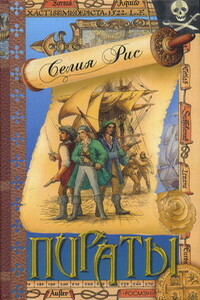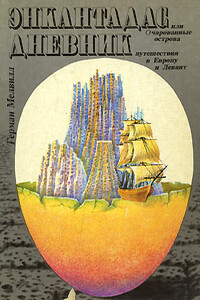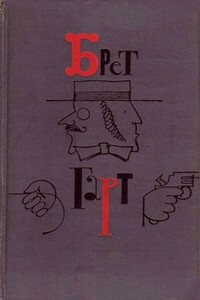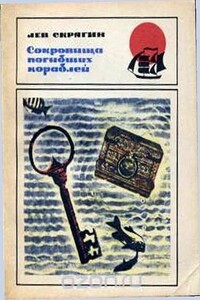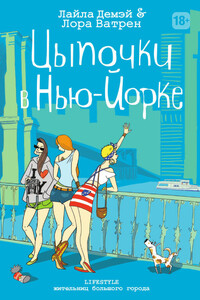С детства меня манили дальние страны, и долгие годы я мечтала уйти в море на одном из судов моего отца. Однажды серым летним утром 1722 года моя заветная мечта наконец осуществилась, хотя и не совсем так, как мне это представлялось.
Я отплыла из бристольского порта на борту «Салли-Энн». Флаг на мачте был приспущен, на рукавах всех членов экипажа чернели траурные повязки. Рассвет выдался холодным и пасмурным. Резкий порыв ветра обдал дождем наши лица. Матросы, нахмурив брови, с тревогой уставились в небо на гонимые ветром облака, но то был всего лишь шквал — последний отголосок шторма, унесшего жизнь моего отца и круто изменившего мою собственную.
Мой отец разбогател, торгуя сахаром и рабами. Он владел плантациями сахарного тростника на Ямайке, и именно туда направлялось наше судно. Братья не объяснили мне, почему и зачем, сказали только, что такова предсмертная воля отца. Мне тогда не исполнилось и шестнадцати, поэтому со мной даже не сочли нужным посоветоваться. Они всегда считали меня глупой девчонкой, хотя это вовсе не так. Уже тогда я прекрасно понимала, что доверять им ни в коем случае нельзя. И время показало, что я была права: они продали меня — продали так же хладнокровно, как и любого чернокожего невольника с побережья Гвинеи.
Я не знала, суждено ли мне когда-нибудь вновь увидеть мой родной Бристоль, но я не плакала и не провожала взглядом удалявшийся берег, как это делали другие, — кто в надежде хоть мельком еще раз увидеть на прощанье жену, а кто, устремив взор на громаду собора Св. Марии и шепча молитву покровительнице мореплавателей: «Дева Мария, Звезда Морская, обереги нас и ниспошли нам свое благословение».
Мой возлюбленный находился в море, отец был похоронен, и его тело, обреченное превратиться в прах, покоилось в гробу под сводами церкви, откуда он всегда провожал свои суда, выходившие из гавани. Быть может, в тот момент его беспокойный дух взирал на меня с небес, сожалея о содеянном и мучаясь от сознания, что мертвые бессильны повлиять на судьбу живых. Но даже если он и находился незримо где-то рядом, я совсем не ощущала его присутствия. Я чувствовала только, что идет дождь, что мои волосы намокли и потемнели от влаги, что дождь струйками стекает по щекам и капает с подбородка. Казалось, само небо оплакивает мою участь. Отчаяние, будто промокший плащ, охватило меня.
Мы уже покинули гавань и теперь направлялись к выходу в открытое море по узкому извилистому проливу, змеящемуся меж угрюмых утесов, чьи вершины упирались в нависшие над ними низкие темно-фиолетовые тучи. Гребцы на буксирных шлюпках усердно налегали на весла, но «Салли-Энн» продвигалась вперед очень медленно. Возвышавшиеся с обеих сторон скалы, казалось, готовы были сомкнуться и раздавить нас, словно корабль Ясона и аргонавтов. Лоцман, выкрикивая команды буксирам, выводил «Салли-Энн» из устья Эйвона [1], направляя ее к Бристольскому заливу.
Помню мрачные заболоченные берега реки и виселицу, установленную низко над водой, на которой покачивалось в железной клетке вымазанное дегтем и в кандалах тело какого-то осужденного матроса — в назидание командам проходящих мимо кораблей [2]. Мне бы следовало тогда обратить на нее больше внимания, но я уже видела виселицы прежде, поэтому не придала ей особенного значения.
Выведя нас в море, буксирные шлюпки повернули назад. Пассажиры уже давно поспешили укрыться от непогоды в своих каютах, и на палубе остались только матросы и офицеры, занятые выполнением своих обязанностей. Проходя мимо, они отводили глаза, но ни один из них не попросил меня отойти в сторонку или покинуть палубу. Они оставили меня наедине с моим горем из уважения к моей утрате — смерти отца. Так я думала тогда. Но в портовых кабаках и трактирах слухи распространяются молниеносно, и вполне возможно, что им уже тогда было известно намного больше, чем мне.