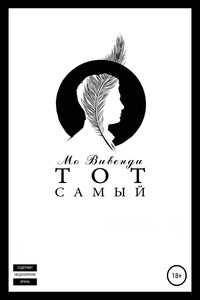Как-то поздней осенью заехал я в Тиханово зайцев погонять по первой пороше. У Семена Семеновича Бородина, моего дальнего родственника, был отличный гонец костромской породы, а у Гладких, второго секретаря райкома, русская гончая – пегий кобель, рослый, как телок. Собаки давно спарились в работе и вдвоем куда хочешь выгоняли и зайца и лису.
Володя Гладких был моим приятелем, и я запросто зашел к нему в кабинет под вечер, чтобы поговорить насчет завтрашней охоты. В приемной застал я директора Мещерского совхоза, с которым был едва знаком. Мы поздоровались. Это был сухой погибистый человек средних лет с темным, сумрачным лицом и белыми залысинами, отчего выглядел каким-то болезненным.
– Что, очередь? – спросил я.
Он замешкался, потянул со стола к себе под мышку желтую кожаную папку и сказал уклончиво:
– У меня тут дело такое, что не к спеху… Так что давай проходи, – и как-то жалко улыбнулся.
– Я тоже вроде не тороплюсь.
– Нет, проходи ты, – настойчивее сказал директор.
Я прошел. В кабинете секретаря застал я какого-то тощего старого просителя в армейском зеленом пиджаке и в резиновых сапогах. Он держал в руках рыжую телячью шапку и упорно глядел на Гладких красными слезящимися глазками:
– Дак пензию дадите мне али как?
Гладких сидел за столом, скрестив руки на груди, с тем выражением безнадежного отчаяния, которое вызывает разве что затяжная зубная боль.
– Ну, милый мой! Я ж тебе десять раз говорил: не имею права. Не занимаюсь я начислением пенсий. На то райсобес имеется.
– Райсобес отказался.
– Я ж тебе пояснил почему… При тебе звонил туда. Говорят, что бумаг у тебя нет. Справок, которые подтверждают трудовой стаж. Понял?
– Дак бумаги Федька не дает.
– Не Федька, а Федор Иванович. А он говорит, что ты мало в колхозе работал.
– А колько позовут, столь и работал.
– Но откуда ж я знаю? Я-то не состоял в вашем колхозе.
– Ну да… Я вот состоял, а пензию не дают.
– Тьфу ты! Опять двадцать пять, – Володя громыхнул стулом и повернулся ко мне: – Вот, поговори с ним.
Старик тоже поглядел на меня, часто заморгал, зашмыгал носом и заплакал:
– Бог с ними… Дадут – дадут, а не дадут – и не надо, – он утер шапкой лицо и горестно вздохнул.
– Вы откуда будете? – спросил я его.
– Из Петуховки я… Самохвалов.
– Кто ж поступил с вами несправедливо? На что вы жалуетесь?
– Мне не то обидно, что не работал, а то, что бумаг, говорят, нету.
– Так ведь только бумага подтверждает, что вы работали, – сказал Гладких.
– Небось, когда работал, бумаги не требовали. Ступай на работу, и все… Я, бывало, и на бакчи еду, и в лес за дровами. Мне говорят – иди в кавхоз, лошадь дадим.
– А вы что, безлошадником были? – спросил я.
– Когда лошади не было, я на крахмальном заводе работал.
– А в колхозе по доверенности работали или как? – спросил Гладких.
– Нет, я на труддень. Сани починю, тырлы… Кавхозник я.
– Да у тебя даже книжки колхозной нет, – сказал Гладких. – Ты в райтопе работал, и в лесничестве, и на кирпичном.
– Куда пошлют, там и работал. Получал колько дадут. Мне больно обидно, что все получают пензию, а я нет. А еще больно грубо сказал секретарь Федька: от меня, мол, все зависит. Хочу – дам бумагу, хочу – нет. А я без работы не могу. Болею я от этого. Охо-хо-хо! Мало работал? Да я, брат родной, сидеть не могу. На быке шкуры возил в войну. А мосты через Петравку развалились. Это как сказать? Телега без наклесток… Не телега – дроги. Шкуры с нее плывут… а я по реке их ловить. По брюхо в воде плавал. Бумаг, говорит, нету. Это не доказывает. У меня свидетели есть. Кто хочешь подпишет, что дядя Васька работал. Эхе-хе-хе! Как, вы мне поясните, сделать-то? Что я в кавхозе работал.
– Надо такую бумагу, чтоб свидетели подписали… хотя бы два человека. Понял? – пояснил Гладких. – Голошеий так сказал.
– Голошеий… Какой Голошеий? Федька, что ли? Дак он не хочет подписывать.
– Да что тебе дался Федька? – взорвался Гладких. – Пусть подпишут свидетели, которые знают, что ты работал.
– Ну да… Подпишут – подпишут, а не подпишут – и не надо. Мне больно то обидно, что бумаги, говорит, нет. Когда работать надо – бумаги не просят… а пензию – дай бумагу. Охо-хо-хо… – Он натянул глубоко, по самые брови, шапку, расправил уши и пошел.
– Наконец-то, – с облегчением сказал Гладких и, дождавшись, пока тот вышел, спросил: – Как думаешь, бестолочь, или придуривается? Если придуривается, то неплохо играет.
– Небось есть захочешь – заиграешь.
– Нет, ты чудной! Что у нас тут, богадельня, что ли? Кто ему велел бегать с места на место? Порастерял все… А теперь и штанов не соберет.
Володя был еще молодым человеком – чуть за тридцать перевалило, – судил обо всем строго. Я только пожал плечами и вздохнул, как давешний проситель…
– Тебя там директор ждет, из Мещерского совхоза, – перевел я разговор.
Он вдруг рассмеялся с каким-то предвкушением потехи и даже руки потер:
– Пусть посидит.
– Да неудобно. Может, позвать?
– Он не войдет… При тебе – ни за что не войдет!
– Что у вас за секрет?
Володя достал из ящика письменного стола сколотую булавкой машинописную рукопись и кинул передо мной на стол:
– Читай!
Я прочитал заглавие: «Письмо директору совхоза „Мещерский“ Петру Емельяновичу Проскурякову»…