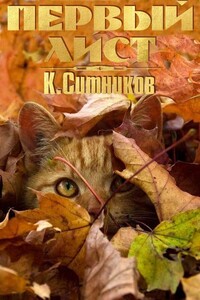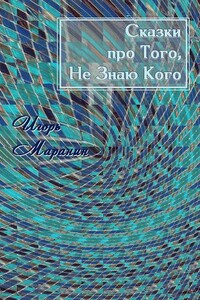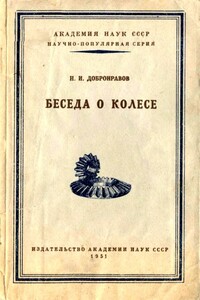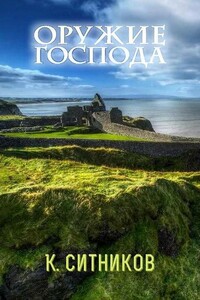Ранним сентябрьским утром я решил позавтракать морепродуктами. Так я пафосно нарекаю акционную банку скумбрии, подсунутую мне хитрым кассиром во время минутной слабости. Я вскрыл её консервным ножом, облизал кровавые раны, нанесённые крышкой, и впал в гастрономическое уныние: назвать это скумбрией в собственном соку было достаточно опрометчивым решением. «Собственный сок с рыбным осадком» — так было бы гораздо точнее. Я уже собрался поматериться вслух, когда в немытое холостяцкое окно постучали.
— Первый лист! — прокаркала Костюкова.
— Где?
— В Луже! А что это ты делаешь?
— Пью скумбрию.
— Ты купил скумбрию по «Красной цене»?! Господи, как же мы умудрились просрать вам в эволюционной войне? — Птица закончила беседу риторическим вопросом и удалилась творить что-нибудь бесцеремонное, как и положено всякой приличной вороне.
Я быстро оделся в локальное.
Локальное — это такой вид одежды. Для выхода в свет на расстояние до 500 метров от дома. В этом радиусе ты уже ни на кого не произведёшь положительное впечатление, как ни старайся. Хоть ты миллион детей из горящего дома вынеси, всё равно для всех будешь «ну этот, который со всеми здоровается, псих какой-то, у нас полный дом таких, Зин».
Так вот. Я вышел из дома и зашлёпал резиновыми тапками к парковке за углом. Там была Лужа. И первый лист.
Первому опавшему листу всегда тяжело. Вот появился ты на свет солнечным апрельским днём на матери-дереве. Растёшь среди бесчисленных друзей и подруг, с которыми дни напролёт шелестишь сначала о всякой ерунде, а потом, уже в пожелтевшем возрасте, и о серьёзных вещах: оборзевшей тле, брошенных гнёздах и ветре, который дует, конечно, сильно и не туда, но уж лучше он, потому что к нему уже все привыкли. И тебе так хорошо, и кажется, что друзья никогда и никуда не уйдут, и сильные, но такие уютные ветви будут крепко держать вас всех, и так будет всегда. Но однажды всё меняется. Что-то невидимое, но такое сильное, чему ты совершенно не можешь противостоять, срывает тебя и кружит, кружит, кружит, унося прочь от дерева, друзей, всего, к чему ты так привык, и что полюбил. И вот ты уже лежишь на земле. А вокруг тишина. И никого, кто должен быть с тобой вечно. Ты думаешь, почему это случилось именно с тобой? И, главное, за что? Почему бросили именно тебя, чем ты хуже других-то? Тебе страшно, обидно и очень, очень одиноко. И не выпить, потому что ты — жёлтый опавший лист, а не творческая личность, оправдывающая алкоголизм выдуманной личной драмой и неготовым к тебе обществом, отчего вроде как легче на душе.
Это потом, когда к первому листу неизбежно присоединяются остальные, его понемногу отпускает. А когда ветра и дворники собирают их вместе, в большие шелестящие кучи, лист-пионер окончательно успокаивается и даже подаёт признаки былой беззаботности. Ведь всем известно: страдать от одиночества лучше в большой компании.
Каждый сентябрь мы помогаем первым листьям пережить непростое время до листопада. «Мы» — это я, мудрая Лужа и скотина Богуславский.
Лужа мудрая, потому что древняя. Появившись очень-очень давно, она никогда не высыхала благодаря отвратительному климату и халатному отношению администрации района к дренажной системе города. В нашем трио она выступала в роли доброго психолога.
— Я прекрасно понимаю тебя, дружочек, — обычно вещала она очередному листу-неудачнику. — Когда-то я жила в большой мягкой туче и летала очень высоко в небе. Но однажды она вылила меня на землю… Я смотрела, как она бросает меня, медленно уплывая вдаль, и тогда мне казалось, что я осталась одна на всём белом свете. Но после приплыли другие тучи, и рядом со мной очутились другие лужи, и я перестала чувствовать себя брошенной. Очень скоро и ты, милый мой, будешь не один. Смотри, у тебя уже есть я. И человек. Ну и скотина Богуславский.
Скотина Богуславский является котом. Его прошлое покрыто мраком. Никто не знает даже, какого он изначального цвета, ибо те места, в которых он изволит бывать, отличаются повышенной замазчивостью. Однажды, в порыве милосердия, я решил его отмыть. Но при первом же приближении кота к воде Богуславский отрастил 30 дополнительных лап и вмиг превратился в орущего противотанкового ежа, не помещающегося ни в какую ёмкость. Я потерпел фиаско, а Богуславский не разговаривал со мной две недели.
Подкармливаем Богуславского я и пенсионерка Михно. Каждое утро Михно надевает золотые серьги и алую брошь, красит лик в белое и выносит на улицу мясное желе, сопровождая подачу блюда громким елейным кисаньем. Богуславский появляется из воздуха, и она неистово гладит его, купая в нерастраченной за долгую жизнь любви. А Богуславский при этом изображает отвращение, делая вид, что любовь ему не нравится.
Сам же Богуславский, как и пенсионерка Михно, не нравится соседу Топорову. Сосед Топоров имеет выражение лица мерзкое, мерзкое прямо физически, как холодный стульчак. Был забавный случай, когда Топоров благим матом отчитал Михно за кормление Богуславского, не приведя при этом ни одного весомого аргумента против. Прослышав про это, Богуславский под покровом ночи нагадил на его «фольксваген», причём в особо изощрённой форме: аккурат под дворники. Утром, в мелкий противный дождь, Топоров сел за руль, включил их и… эм-м-м-м… скажем так: увидел мир в его подчёркнутой реальности. А Богуславский залёг на дно. Ну не скотина ли? Разумеется, скотина.