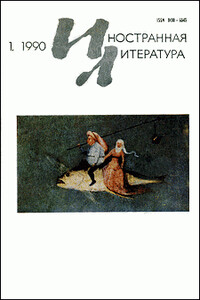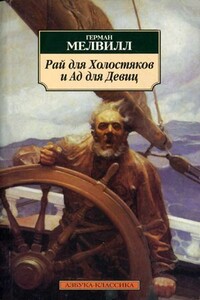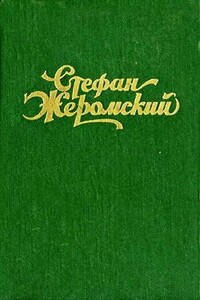Гончие ушли в лес.
Отголосок их лая замирал постепенно вдали, пока не растаял, наконец, в безмолвии леса. Порою казалось, что далекое эхо все еще отдается где-то в бору, то как будто в стороне Самсоновских лесов, на Кленовой, Буковой, Стравчаной, а то вдруг вовсе на Еленевской горе… Когда умолкал порыв ветра, тишина, словно лазурь из-за облаков, выплывала, глубокая, беспредельная, и тогда ничего уже не было слышно.
Кругом высились пихты с плоскими макушками, подобные готическим башням с невыведенным щипцом. Их сизые стволы светились во мраке. С огромных ветвей свисал старый мох. Пустив корни между камнями в самую толщу скалистого грунта, цепляясь когтями ответвлений за каждый комок земли и высасывая каждую каплю влаги, могучие пихты уже не одно столетие покачивали своими царственными вершинами среди туманов, окутывавших Лысицу. Кое-где одиноко стояла старая-престарая пихта с усохшими сучьями, которые торчали, как обрубленные топором перекладины лестницы. На просторе, будто гнездо аиста, колыхалась только светло-зеленая верхушка ее с шишками, глядевшими вверх. Ветви елей, отягченные снежным покровом, изгибались, склоняясь к земле. Казалось, это лапы тянутся отовсюду, косматые, белые, словно выложенные перламутром и, притаившись, кого-то подстерегают, На кончиках веток, словно выпущенные коготки, весело сверкали свежей зеленью самые молоденькие иглы. Пушистые хлопья снега, чуткие к каждому дуновению ветра, поминутно осыпались от собственной тяжести и пропадали в белом покрове земли, как дождевые капли пропадают в озерной глуби. С верхушек слетала чуть приметная снежная пыль, такая легкая, что, прежде чем опуститься на землю, она долго стояла в воздухе, сверкая кристаллами.
Около полудня снега стала согревать легкая оттепель. По бледно-голубому простору плыли белые облака, пронизанные солнечным блеском. На самых высоких ветвях елей таял лед, и большие капли сверкали в темной зелени хвои, как крупные алмазы. Там и сям длинные сосульки, свешиваясь с одревеснелого мха, с потрескавшейся шершавой коры, отбрасывали снопы холодных искр. Ниже, в темной тени ветвей, царил еще утренний холод. Некоторые елочки с красно-бурыми стволами, еще желтевшими у верхушек, согнувшись под безмерной тяжестью снега, склонили высокие маковки до самой земли и не могли оторвать от нее примерзших ветвей. Кое-где, образуя под снегом жуткие, зияющие пещеры, валялись деревья, вывороченные с корнем суровыми свентокшижскими ветрами.
Прислонившись спиной к стволу толстого бука, Рафал стоял неподвижно и слушал.
Над головой у него и перед глазами сплелись крепкие, обледенелые сучья, напоминавшие цветом чешую окуня. Тонкие, упругие, как сталь, ветки были неподвижны, а весь огромный ствол с ответвлениями и изгибами, подобными напряженным мышцам человека, казался самим духом мороза. Исполинский бук стоял одиноко, такой твердый и холодный, словно он и не был деревом. Царь на Лысице! Не трепещут от ветра его ветви, не гнется ствол. Раскидистая его вершина, вознесшись над лесами, глядит со своего царственного уступа на широкие долины, которые тянутся к северу и югу, озирает отроги гор. Пусто повсюду, поля, деревушки… Далеко, за последней вершиной горной цепи, за Сторожевой горой тянутся вширь пашни до Крайны, до самой Камень-горы. Древний бук помнит дни своей весны, когда в долинах Вилькова, Цекот, Бжезинок, по горам, до самых Кельц тянулся девственный бор. При нем погибли под топором дубравы, между полосками поднятой крестьянами целины, на болотах, где вечно сочилась вода, высохли непроходимые леса. Там, где веками росли и гнили косматые ели, теперь свищет ветер над бурьяном. Пашни врезались в самую чащу, лишаями ползут в складки ее плаща, из года в год простираются все выше и выше к усеянным валунами вершинам Псар, Радостовой… У подножия гор высыхают озера, поившие влагой деревья, обнажается красный грунт, и камни сверкают на солнце. Один можжевельник прикрывает раны и наготу земли. Все реже и реже о ствол старого бука трется косматым телом медведь, все реже и реже приходит дремать в тени его олень с ветвистыми рогами, и волк не так часто подстерегает тут пятнистых оленят. Не свищут над его ветвями орлиные крылья, и ястреб лишь изредка прилетает в гневе и ужасе посмотреть с высоты на разрушенное свое обиталище.
Вопреки строгим охотничьим правилам Рафал оставил свое место и украдкой поднялся на вершину горы. С минуту стоял он там и с тайной тревогой смотрел на поляну, куда, по народному поверью, слетаются в полночь ведьмы, колдуньи-упыри да чаровницы, которые водят и кружат путников, и является сам нечистый. Гладкие грани огромных глыб кварцита, словно сам мороз, искрились на солнце зернистым блеском. Обмерзлые сучья, торчавшие из-под снега, казались оружием, выкованным из хрусталя. Старые пихты отбрасывали тень до половины обрыва.
Вернувшись на свое место, молодой охотник стал прислушиваться. Когда он чутко насторожил слух, ему почудилось, будто вместе с ним слушает сам лес. Тишина по-прежнему царила глубокая, глубокая, подлинно невозмутимая.