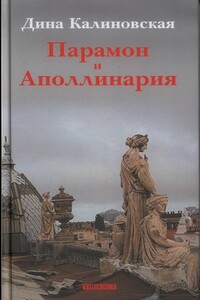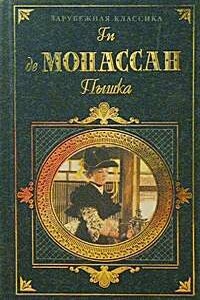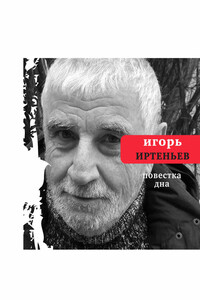Вечером дед Володя машинкой постриг Парамона под нуль, а Парамон, пока спал, об этом забыл. Утром проснулся — и не может понять, почему голову холодит. Потрогал макушку, потрогал затылок, вспомнил сугробчик желтых волос на полу, сразу встал, натянул штаны, футболку и, не умывшись, не поев, пошел показаться Аполлинарии.
По озеру еще слонялся сонным бараном туман, а тетя Маша Зайцева со снохой пошлепали на веслах в слободу, они работали в столовой, им надо было рано. На коньке за овсяным полем разбрелись коровы, там щелкал по земле тяжелым кнутом и покрикивал «и-их!» дед Володя. Черный безголосый петух с ненавистью посмотрел на Парамона. Парамон давно бы прибил петуха, потому что никакой вины перед ним не имел и не понимал, как можно ненавидеть без причины. Но во-первых, петух принадлежал Аполлинарии, а во-вторых, он один остался на всю деревню. В прошлом году слободской магазин стал продавать яйца с птицефермы по восемьдесят копеек десяток, и вся деревня посчитала разумным за зиму своих кур съесть. И скушали. А яйца в слободе пропали. Теперь сидят без яиц, кукуют. У одной Аполлинарии три курочки остались да этот черный фашист.
К Аполлинарии идти через два дома на третий. Она уже встала, знал Парамон, сидит кашу ест или чай попивает. А если попила, знал Парамон, то самовар все равно стоит на столе, его дожидается, Парамона. Сама же Аполлинария в ситцевой кофте и в белом платке под окошком доплетает позавчера начатый воротник. Аполлинария на всю деревню первая кружевница, так старухи определили между собой. Она за зиму наплетет воротников и косынок, за лето туристы всё раскупают. А она и летом плетет. Она не может не плести, у нее, если не поплетет день, начинают болеть руки, особенно ломит пальцы, знал Парамон.
Ворота Аполлинарииного дома были раскрыты настежь. Видно, успела натаскать воды из озера. Парамон вошел на мост, покачался на доске. Она торчала тут, когда Парамон еще не родился. Пришел цыган, знал Парамон, завел коня, а настил под конем проломился. Виноватый цыган заплатил Аполлинарии за нечаянное безобразие самоваром. Аполлинария осталась довольна.
Парамон покачался на скрипучей доске, покачался и толкнул плечом толстенную дверь.
Аполлинария, как он и знал, возле окошка щурилась и улыбалась над валиком — плела. Над ней в простенке качался дразнилка-маятник, в руках у нее прыгали, щелкали коклюшки.
— Смотри! — крикнул он с высокого порога.
Она посмотрела. Перестала плести, отвела голубую занавеску, чтобы было виднее.
— Настоящий солдат стал.
Аполлинария лучше всех все понимала. Парамон сам просил деда Володю не оставлять никакого чубчика, чтобы было как у солдат, тех, что строят возле дороги над озером большой дом для школьного интерната.
— Чаю попьешь, солдатик?
— Четыре ложки позволишь — попью.
У них заведено было торговаться из-за сахара.
— Четыре так четыре, — сказала Аполлинария, и Парамон очень удивился: больше трех она не разрешала никогда, говорила — мужикам много сладкого нельзя, у них, считала, от сладкого смолоду расползается лысина.
— Времечко через деревню бешеным козлом скачет, — сказала Аполлинария, опять взявшись за коклюшки. — Осенью в школу поступишь, а там, глядь, и в армию позовут.
— Сперва женюсь, а потом уже в армию, — подумав, заявил Парамон.
— Кто ж сперва женится? — заспорила Аполлинария. И Парамон опять удивился — спорщицей Аполлинария не была никогда. Но она быстренько спохватилась и поправила разговор: — Или невесту приглядел?
Парамон промолчал.
— А как же без невесты-то жени-и-иться? — пропела Аполлинария. Она любила так — говорит, говорит, а вдруг и пропоет.
Парамон посмотрел на нее и тоже пропел:
— Надо будет — и найдется неве-е-еста!.. — И стал цедить себе в кружечку из самовара. — Еще не примут-то, — усмехнулся Парамон, играя краником: то тонко пустит, то вовсю. — В школу-то.
— Их власть, — согласно усмехнулась Аполлинария. — Могут и не принять.
И они весело и победительно посмотрели друг на друга.
А дело в том, что четвертого дня к Парамону лично приходила интернатская учительница тетя Маша Шилова. Она обходила все приозерные деревни и записывала в первый класс. А Парамона брать не захотела, когда узнала, что ему семь лет только зимой будет. «Погуляй еще на воле, рано тебе». Парамон молчал, он не такой, чтобы упрашивать. Но сестра Катя поискала букварь и заставила прочитать учительнице. Он прочел, где указали: «Мы-a, шы-а — Маша, у-мы-ны-а — умна». — «Вот ты какой молодец! — похвалила учительница тетя Маша. — А что же это значит, Парамон — „Маша умна“?» И обиженный Парамон, хоть и понимал, что выйдет неуважительно, ответил: «А то и значит, что сперва подумает, а потом уже скажет!» Учительница засмеялась и записала его.
Парамон завернул краник, уселся с кружечкой поближе к Аполлинарии, чтобы было видно, как плетет, и повел их обычный утренний разговор.
— Ну что, не падала больше? — спросил он.
Имелась в виду болезнь, которая стряслась с Аполлинарией весной. Она упала в курятнике и сколько-то без сознания там пролежала, пока Парамон не нашел ее. Он испугался, подумал, что умерла, побежал за старухами. Старухи пришли, подняли Аполлинарию, принесли в дом, положили на лавку, тут она и проснулась. Ничего, говорила, не помню. Не помню, говорила, как в курятник шла, не помню, говорила, зачем шла, ничего не помнила. Парамон, говорила потом, меня спас, а то бы, говорила, замерзла в курятнике. Конечно, замерзла бы, понимал Парамон. Тогда была совсем еще ранняя весна, снег не стаял, по озеру вовсю ездили на санях. Парамон теперь всегда первым делом спрашивал, не падала ли еще. На нем теперь за нее была ответственность. «Неужто мне каждый день падать?» — всегда отвечала Аполлинария, притворяясь обиженной за недоверие к ее здоровью. «Не падала — и хорошо», — хвалил Парамон, не замечая притворства.