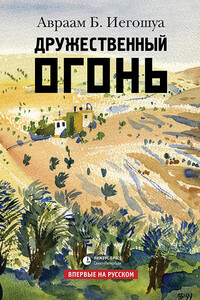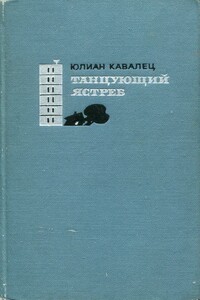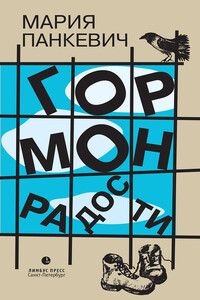И жара стояла, и путь был неблизкий, но из больницы домой Павел Кузьмич шел пешком. Встреча с лечащим врачом вывела его из равновесия: врач сказал, что операция сыну после консультации с профессором-кардиологом отложена, а после курса лечения, не исключено, что ему дадут инвалидность… Лысоватый, жилистый, с лицом сплошь красным, как от застарелого ожога, в рубашке с засученными рукавами, Павел Кузьмич шагал неспешно, опустив голову и не глядя на встречных.
Минут сорок заняла дорога, а он все равно не решил, сказать жене правду об Игоре или смолчать. «И откуда Игохе такая напасть, — думал он. — В армии служил, комиссии проходил… И работал, не жаловался. Ну-ка ежели на инвалидность теперь! Жениться парню пора. И неспроста, видно, выпытывал доктор, не было ли в роду у нас с пороками сердца, или этих… хронических алкоголиков! Ну да что уж теперь…»
Он открыл калитку своего дома, немного сдвинутого вглубь от улицы, и по утоптанной дорожке, вдоль низенького заборчика, прошел к крыльцу. Дом был бревенчатый, на кирпичном фундаменте, с палисадником; обшитое досками крыльцо, над которым как фамильный герб — кузнечную наковальню и от нее веером лучи — самолично вырезал Павел Кузьмич до войны еще.
Рыже-черная дворняга по кличке Дик кинулась навстречу хозяину, он кивнул ей, точно равноправному члену семьи.
Вышла на крыльцо супруга, Настасья Авиловна.
— Что, отец? Как там Игорь?.. Что врачи говорят?
Только растерянность и мелькнула на потном его лице, когда подавал жене целлофановую сумку из-под передачки.
— Что врачи? Выпишут на днях. А он ничего. По рыбалке, говорит, соскучился… Дай-ка умыться.
Настасье Авиловне порядком за пятьдесят, но выглядела она моложаво и была разворотлива, легка на ногу. Павел Кузьмич оглянуться не успел, как она вынесла таз с водой и поставила возле заборчика на табуретке, в тени высокой березы, подала мыло и полотенце — летом хозяин любил мыться во дворе.
Он помылся, утерся не спеша и присел на крыльце, подождал, пока жена прибрала после умыванья. Скоро и она села рядом с ним, — щеку рукой подперла, пригорюнилась. Непривычно им было оставаться вот так, вдвоем; всю жизнь полон дом, дети да дружки ихние, подружки соберутся, гвалт подымут…
— А когда на днях-то, не сказывали? — прервала молчание Настасья Авиловна.
— Да на неделе, должно.
— Неужто и на работу сразу выпишут?
— Не должно. На больничном, верно, побудет.
— Тебе тоже вот на пенсию: будете по дому хозяйствовать. В отпуск Игорь все равно собирался. Тебя не уговаривают поработать?
— Отработал свое. У нас цех-то — не шуточки. Болванки раскаленные поворочай, покидай смену-то!
— Дак неужто, — согласно сказала она. — И то, чуть, по ночам дергаться стал. Сходил бы в больницу.
— А ну тебя, — с досадой проворчал он. — Да, вот: Игорь Вальке написал, чтобы домой ехал.
Валентин, младший сын, в армии отслужил, — дома не приглянулось: уехал в Казахстан, после в Башкирии объявился.
— Хорошо бы послушался Валентин. Чего уж ему по чужим людям, — сказала Настасья Авиловна со вздохом и поднялась. — Ужинать уж будем, как Юля прибежит…
Юлька в прошлом году окончила десятилетку и поступила на фабрику. Четвертым был у Рядновых старший сын Виктор, который тоже работал на заводе, но жил отдельно, своей семьей.
Хозяйка ушла в дом. А Павлу Кузьмичу вспомнилось, какой Настя в девках была…
В не столь отдаленной деревне Гонобоблево у Кузьмы Ряднова, колхозного кузнеца, было три сына — Гордей, Павел, Матвей. Старший, Гордей, первым курсы трактористов окончил, первую тракторную борозду на поле проложил. С ним и гуляла Настя. А Павла высмеивала всячески, и от этих насмешек в душе у него набирало силу какое-то нескладное чувство любви и нетерпимостей к ней. Годы не стерли в памяти ту непреднамеренную встречу, которая и соединила их навек. До мелочей помнится Павлу Кузьмичу копнушка клевера у конюшни, сладостно-медовый дух вянущих листьев, розовых и красных головок. До вечера еще далеко, кто были у конюшни, на обед подались. Настя лежит у подножья копнушки, кидает в присевшего наотдале Павла головками клевера и поддразнивает: «Пашка-Павлуха — лохматое ухо!» Он боком, неуклюже подвигается к ней, грозится: «Вот я тебя ужо сграбастаю!» А она в ответ знай смеется: «Оченно ты мне нужен!» В неуправляемом своем отчаянии он надвинулся на нее, ослепленный и оглушенный ее глазами, раскрытыми влажными губами и этим глубоким, обволакивающим смехом… Это нечаянное, как гром грянувшее сближение и определило их дальнейшую судьбу: через недолгое время подался Павел в город, а там и Настя за ним. Стали работать вместе на строительстве экскаваторного завода. Потом, когда стройка к концу подошла, выбрал Павел по примеру отца кузнечное дело — и на всю жизнь. Года за три построились сами, дом в поселке поставили, не хуже других в порядке…
Настасья Авиловна сходила к колонке за водой, внесла по ступеням, не колыхнув, полнехонькие ведра. Выглянула, прервала размышления Павла Кузьмича.
— Ты бы отдохнул шел, отец.
Ни слова худого не сказал о состоянии сына Павел Кузьмич, но Настасья Авиловна по каким-то приметам догадалась, что дело неладно, и чем дальше, тем больше она испытывала беспокойство, которое, впрочем, старалась не выдавать. Она заговорила о младшем сыне Валентине: если, мол, приедет, так хоть на первое время ему послабление дать, не строжить. Чтобы обвыкся, ужился дома.