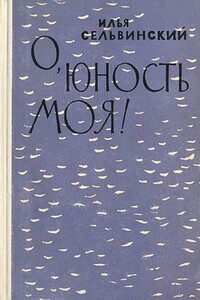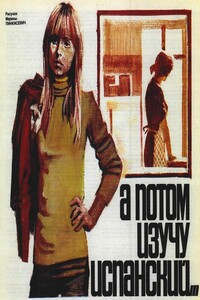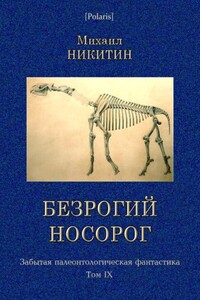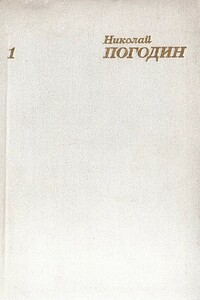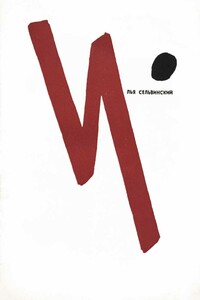В каждом городе свои утренние шумы. В Евпатории с шести часов начинался прибой. Он заменял городские часы. Первая же волна поправляла стрелки циферблата. Город окутывался шелковистым шелестом, если было лето, или зубовным скрежетом, если зима. Через сорок минут жителей будил ворчливый окрик пароходика «Чехов», совершавшего рейсы Одесса — Керчь. Еще через час по 1-й Продольной, 2-й Продольной, 3-й Продольной и прочим лишенным фантазии Продольным разносились бодрые голоса:
— Картошка! Картошка! Картошка!
— Точить ножи-ножницы!
— Молоко-о-о!..
Иногда по-татарски:
— Сучи-и-и!..
Иногда по-турецки. Почти песенка, воспевающая овощи:
— А джан чек бакла ким ер! Патлажан улаары… Бам йола… бам йо!
Два рослых гимназиста шли у самой пены прибоя.
По утрам гнилостные водоросли ранне-осеннего моря пахли винными яблоками, и этот чуть опьяняющий запах возбуждал ощущение беспричинного счастья. Но гимназисты были настроены очень серьезно.
— Как ты думаешь? — спросил товарища Сима Гринбах.— Эта песенка действительно принадлежит продавцу овощей?
— А кому же еще? — удивился Володя Шокарев.
— Кто их знает. Может быть, ее поет подполковник турецкой разведки? Время такое.
Юноши рассмеялись.
Из окон гимназии уже гремели рявкающие громы геликона, мягкие рулады трубы № 2, птичьи переливы флейты.
Гринбах шел, энергично раскачиваясь, как на палубе. Брюки «колокол» и матросская тельняшка под расстегнутой гимназической тужуркой выдавали его тайные мечты. Шокарев же вяло плелся, согнув руку в локте и безвольно распустив все пять пальцев.
У Евпатории два лица: весенне-летнее и осенне-зимнее. Летом курорт наводняли приезжие из Петербурга, Москвы, Киева, даже из Севастополя и Ялты, потому что нигде в Крыму нет такого свободного выхода к морю и такого золотого пляжа. Курортники сорили деньгами, жадно набрасывались на все, что продавалось, взвинчивая цены и загоняя испуганных туземцев в зимние норы. Приезжие — большей частью элегантные мужчины и нарядные женщины — самим стилем своим необычайно подходили ко всему облику крымского лета хотя бы уж тем, что, освобожденные от своих контор, банков, университетов и отданные всем стихиям, они становились чувственными, как сам пейзаж. А город был чувственным: много солнца, много моря, много дюн. Чувственными были дельфины, фыркающие от наслаждения, рыбы, выскакивающие из воды; чувственным был азиатский базар: его дыни с таким нежным ароматом, что спорить с ним могли только лилии; его груши дюшес, истекающие медовым соком; его помидоры, иногда холодные, маленькие и острые, как детские язычки, иногда горячие, пышные, раздобревшие, в красных и оранжевых сарафанах. Чувственным был пляж, на котором томились женщины. Их возлюбленным было семитское божество: Шамаш.
Но зимой это был город гимназистов и рыбаков.
Гринбах и Шокарев вошли в темный длинный коридор. По дороге Гринбах застегнулся, конечно, до самого горла.
В рекреационном зале висел на стене огромный портрет Николая II, одетого в мундир кавалергарда, белый с золотом. Бывший император к этому времени находился уже под арестом, вместо него полагалось бы висеть Сейдамету с его неизменной феской. Хотя даже в Турции феска означала эмблему реакционного режима и подвергалась гонению, этот алый с черной кистью головной убор намекал на турецкую ориентацию и был весьма угоден султану. Его высокопревосходительство Джефер Сейдамет занимал пост председателя директории Крыма, объявившего в 1917 году независимость. Господина председателя поддерживала татарская партия «милли фирка», ему подчинялся крымский парламент — «курултай», поэтому Джефер обладал неоспоримым правом замены своей персоной бывшего российского монарха на крюке гимназического зала, тем более что Крым считался уже «заграницей». Но висел почему-то по-прежнему Николай. Висел на всякий случай. А в конце концов не все ли равно, кто в раме? Главная беда — нет веры ни в царя, ни в Керенского, ни в Сейдамета! Остальное мелочи.
В зале, несмотря на воскресенье и ранний час, упражнялся небольшой гимназический оркестр: готовился бал в женской гимназии. Пока звучали польки, венгерки, даже вальсы, все шло благополучно. Но вот потребовался солист: в программе стояла песня Леля из «Снегурочки». Несколько храбрецов, в том числе Володя Шокарев, пытались было взять мелодию с маху, но хотя Володя был сыном миллионера, играл он с фальшивинкой.
Сима Гринбах, пришедший сюда только для того, чтобы послушать репетицию, сказал:
— Мальчики! Эту песню может сыграть только Леська Бредихин.
— Ты уверен?
— Абсолютно.
— А корнет я ему дам свой собственный,— обрадовался Шокарев.— У моего совершенно серебряный звук.
— А почему Бредихина сегодня нет на репетиции? — раздражено спросил инспектор.
— Он не хочет сидеть на балу с музыкантами. Предпочитает сам танцевать.
— Но хотя бы для концерта может он исполнить песню Леля? — уже гневно воскликнул инспектор.
— Уговорим!
— Я вас очень прошу. Иначе он получит четверку по поведению.
— Уговорим. Правда, Сима?
— Авелла!
— И чтоб я этого «авелла» больше не слышал! — загремел инспектор.— Что за жаргон?
Шокарев и Гринбах вышли на улицу и снова побрели вдоль моря. Их обдавало водяной пылью и мокрым песком.